Ирина Борисовна Бомейко,
главный библиограф справочно-библиографического отдела
Вовсю зазвенела капель оттепели, ораторы рассуждали о возврате к ленинским нормам, пример молодой Кубы возрождал светлую память революции. И сама революция и - в соответствии с техническим веком – вопринималась космично: Россия тысячам тысяч свободу дала / Мило дело! Долго будут помнить про это. / А я снял рубаху, / И каждый зеркальный небоскреб моего волоса / , Каждая скважина / Город да тела / Вывесила ковры и кумачовые ткани. / гражданки и граждане / Меня-государства… / Радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу…
Так понимали революцию не только Хлебников, но и Платонов, Заболоцкий, Циолковский: как тотальное сопровождение всего – даже атомов.
60-е годы казались замкнутым, завершенным историческим этапом. Советская жизнь тогда застыла в неподвижности, по сравнению с которой бурная реальность оттепельных лет предстала соблазнительной для исследователя. В эти же переломные годы произошли и коренные изменения в идеологии советского общества.
Главным поэтом эпохи был Хрущев.
Стихов он, правда, не писал – только мемуары. Через много лет после смерти Сталина выяснилось, что и он писал стихи. К счастью – очень плохие. «К счастью» – потому что иначе образ Сталина в исторической перспективе приобрел бы дополнительные нюансы. Хрущев был главным поэтом эпохи. А ее поэтический конспект составил Евгений Евтушенко.
Евтушенко сумел просто и доступно разъяснить народу – что же происходит в стране и мире. Даже у самих преобразователей кружилась голова от крутых виражей и зигзагов, а чем дальше от Кремля, тем непонятнее и неожиданнее все становилось. Это противоречило неторопливой российской мудрости: «Тише едешь – дальше будешь», «Жизнь прожить – не поле перейти…» Ходячие истины пословиц и поговорок, кажется, полностью исчерпывают потребность в анализе событий и явлений – благодаря своей языковой завершенности, абсолютной, как идеальный шар, гармоничности. На уровне удобных и внятных формул происходит постижение мира, и Евгению Евтушенко удалось эти формулы найти. Ему - удалось.
Другим – нет. Они не стали поэ-….политическими символами эпохи. Вернее, они – другие – стали именно ПОЭТИЧЕСКИМИ СИМОЛАМИ ЭПОХИ.
Кому досталась эта честь…? Они – далеко. В Америке или еще где-то.
Не сложилось в СССР, не «срослось»… Здесь – тюрьма …. За свободомыслие, там – свобода за то же самое.
Иосиф Бродский, Александр Галич, Наталья Горбаневская, Василий Аксенов, Войнович, Зиновьев, Синявский… можно продолжить. С этого утверждения начинается глава «Поэзия» книги, написанной журналистом Петром Вайлем в соавторстве с Александром Генисом, эмигрировавшими в США, «60-е. Мир советского человека»
Вайль, П. Л. 60-е. Мир советского человека / Петр Вайль, Александр Генис ; с иллюстрациями Вагрича Бахчаняна. - Москва : АСТ : CORPUS, 2013. - 429, [1] с. : ил. ; 21. - Библиогр. в примеч.: с. 389-430. - ISBN 978-5-17-079727-1.
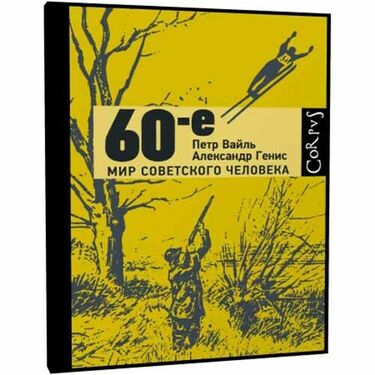
Это своего рода путешествие в эпоху, которая, по мнению авторов, началась в 1961 году XXI съездом Коммунистической партии, принявшим программу построения коммунизма, а закончилась в 1968-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Это был особый период в жизни советской страны, противоречивый, парадоксальный, породивший новый «ЭТНОС» - советского человека, к которому я, составитель обзора книг по диссидентству, обычная советская школьница – пионерка, комсомолка, но не шагнувшая далее – в партию (потому что «туда» принимали самых-самых), тоже себя причисляю.
Одна из глав как раз и повествует об ЭРЕ КОММУНИЗМА, отправной точкой которой считается 30 июля 1961 года. Дата построения коммунистического общества в одной отдельно взятой стране – СССР.
Хотя проект новой, третьей, Программы КПСС был принят Пленумом ЦК в июне, в газеты текст попал 30 июля.
Это было воскресенье. В «Современнике», который в ту пору именовался еще «театром-студией», шло «Третье желание», в Зеркальном театре сада «Эрмитаж» – легкомысленная «Девушка с веснушками». На вечер телевидение запланировало всенародный праздник – матч московских команд «Спартак» и «Динамо». Хотя их монополию уже нарушили торпедовцы, а в нынешнем сезоне к чемпионству резво шли киевляне, старая гвардия бурно волновала умы. Гагарин, распрощавшись с Фиделем, летел в Бразилию и по пути в этот день был с восторгом принят населением голландской колонии Кюрасао. Госполитиздат закончил выпуск 22-го тома Полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина со статьями о ликвидаторах, отзовистах и примиренцах. Никита Сергеевич Хрущев инспектировал сельское хозяйство. Любое из этих событий привлекало внимание читателей газет в такой большой стране, как Советский Союз, и все события поблекли перед главным – текстом проекта Программы КПСС. Потому что в жизнь каждого советского человека вторглась поэзия, призванная изменить жизнь такой большой страны, как Советский Союз.
Новая Программа КПСС обещала построить коммунизм, и эта задача, собственно говоря, уже была выполнена самим произнесением сакральных слов: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
Всегда перед страной стояли конкретные и внятные задачи: победить внешних врагов, победить внутренних врагов, создать индустрию, ликвидировать безграмотность, провести коллективизацию. Все это сводилось к общей идее построения социализма, вскоре после чего началась великая война – мощный импульс созидания через разрушение. Советский народ всегда что-то строил, попутно что-то разрушая: буржуазное искусство, попутчиков, кулачество как класс. XX съезд отнял у людей идеалы – маячил призрак великой смуты: священное имя Сталина, «вождя и вдохновителя всех наших побед», было дискредитировано. Страна пребывала в неясном томлении – без опоры, без веры, без цели. Со страной поступили нечестно, сказав - как не надо, а как надо – не сказав.
В самом прямом смысле в конкретные цифры Программы никто не поверил. Но этого и не требовалось – по законам функционирования художественного текста.

Но зато каждый нашел в Программе желаемое для себя. О чем же говорила Программа?
Целью она провозглашала строительство коммунизма – то есть общества, смыслом которого является творческое преобразование мира. Многозначность этой цели только увеличивала ее привлекательность. Творческое преобразование мира – это было все: научный поиск, вдохновение художника, тихие радости мыслителя, рекордная горячка спортсмена, рискованный эксперимент исследователя.
При этом духовные силы человека направлены вовне – на окружающий мир, неотъемлемой частью которого он является. И в качестве таковой человек не может быть счастлив, когда несчастливы другие.
Художники-модернисты усмотрели в параграфах Программы разрешение свободы творчества. Академисты и консерваторы – отвержение антигуманистических тенденций в искусстве. Молодые прозаики взяли на вооружение пристальное внимание к духовному миру человека. Столпы соцреализма – укрепление незыблемых догм. Перед любителями рок-н-ролла открывались государственные границы. Перед приверженцами «Камаринской» – бездны патриотизма. Руководители нового типа находили в Программе простор для инициативы. Сталинские директора – призывы к усилению дисциплины. Аграрии-западники разглядели зарю прогрессивного землепользования. И все хотели перегнать Америку по мясу, молоку и прогрессу на душу населения: «Держись, корова из штата Айова!»
Программа с мастерством опытного проповедника коснулась заветных струн в душе. Против предложенных ею задач нельзя было ничего иметь в принципе. Три цели, намеченные Программой, не могли не устраивать: построение материально-технической базы, создание новых производственных отношений, воспитание нового человека.
Первая задача обеспечивала благополучие без стяжательства. Облик погрязшего в плюшевых абажурах обывателя не нравился никому. Отрицание частной собственности превратилось из лозунга в категорический императив, и всем было ясно, что в правильном обществе правильные люди должны располагаться под светом торшеров изящного – даже не рисунка, а неведомого пока дизайна.
В том, что Программа обещала построить коммунизм через 20 лет, было знамение эпохи – пусть утопия, пусть волюнтаризм, пусть беспочвенная фантазия. Ведь все стало иным – и шкала времени тоже.
Потрясающе дерзким в партийной утопии был срок – 20 лет.
Любой мог выглянуть в окно и убедиться в том, что пока все на месте: разбитая мостовая, очередь за картошкой, алкаши у пивной. И даже ортодокс понимал, что пейзаж не изменится радикально за два десятилетия.
Программа партии была безнадежно неубедительна логически, но доказывала верность обозначенной цели и выбранного пути самим своим появлением.
И тут ведь нашлись те, кто оказался НЕСОГЛАСНЫМИ! С Программой, с «утопией»….

Советское общество дохрущевского периода было серьезным. Оно было драматическим, героическим, трагическим. 60-е искали альтернативы этой идеологической модели. Они заменили знаки, и общество стало НЕСЕРЬЕЗНЫМ. Отрицание «серьезности» подразумевало борьбу с фальшью, обманом, красивыми словами. Ложь – от государственной до частной – стала главным врагом 60-х…
После многолетнего застоя в сознании страны произошел сильнейший сдвиг, и сдвиг вызвал движение. Съехало с привычных мест все: мнения, критерии и люди.
Стиль эпохи требовал легкости, подвижности, открытости. Даже кафе стали на манер аквариумов – со стеклянными стенами всем на обозрение. И вместо солидных, надолго, имен вроде «Столовая-43», города и шоссейные дороги усыпали легкомысленные «Улыбки», «Минутки», «Ветерки». А по этим дорогам с ветерком ехали непонятные люди без командировочных удостоверений. Куда и зачем? Да куда и за чем угодно! В том и состояла новизна, что определенных целей у этих кочевников не было. Цель выглядела туманно и заманчиво и - Романтика.
Так был назван этот хаотический порыв, и невнятность цели обеспечивала ту новую питательную среду, в которой свобода – любая – была главным компонентом.
В 50-е тоже ехали. «Едем мы, друзья, в дальние края…» - пели целинники. Когда-то также отправлялись на коллективизацию двадцатипятитысячники. Путевка на освоение целины была приказом.
Послесталинское брожение такой опреденностью не обладало. Это было вроде стихийной миграции леммингов. Только шестидесятники топили себя в море Романтики.
60-е принесли с собой новое явление, даже во многом были сформулированы им – песни бардов. Барды – поэты, композиторы, музыканты и певцы – в одном лице – пели примерно то же самое, что и комсомольцы, но их песни были искренни, неформально лиричны и отчаянно прославляли свободу: А я еду, а я еду за мечтами, / За туманом и за запахом тайги.
Что касается поэзии, что в интонации критиков звучала растерянность: «Иногда кажется, что все поэты куда-то разъехались и в Москве и в Ленинграде стихов больше не пишут, а пишут их непосредственно в тайге, в тундре. И в русской поэзии наступил кочевой период».
Даже у Иосифа Бродского явственно выступают атрибуты романтики: «Да будет надежда ладони греть у твоего костра. / Да будут метели, снега, дожди и бешеный рев огня…» И он в молодости не миновал всеобщей участи геологических испытаний, и у него в эпоху движения появились стихи с характерными названиями - «Шествие» и «Пилигримы»…
То явление, которое позже назвали диссидентством, возникло незаметно. И об этом тоже очень любопытно рассуждают «диссиденты» Вайль и Генис в одноименной главе: «Собственно, когда его участники получили это иностранное имя, все и кончилось. Не зря сами диссиденты неохотно называли себя так, предпочитая дословный перевод – «инакомыслящие». Это было все же теплее чужеродного звучания с присвистом: «диссидент». В литературно-центристском российском обществе эти нюансы имеют значение. Потому и слово «инакомыслящий» тоже не вызывает очень уж положительных эмоций, как любое слово с отрицанием и противопоставлением (анти-, контр– и т. п.). Название «правозащитники» оказалось удачнее – в нем звучала «правота».
Авторы книги «60-е. Мир советского человека» уверены: речь идет о движении не политическом, а общественном. У диссидентства нет истории в традиционном смысле: нет основателей, теоретиков, даты учредительного съезда, манифеста. Невозможно даже определить (особенно на ранних этапах) – кто был участником движения протеста.
Потребность в смене жанровых и стилевых систем общества и породила инакомыслие. Закономерно, что первые шаги этого движения сделали поэты, художники, писатели. Закономерно, что из поэтических чтений у памятника Маяковскому, из одной компании, вышли лидеры столь различных направлений диссидентства, как Эдуард Кузнецов (условно – «сионист»), Владимир Осипов («славянофил»), Владимир Буковский («демократ»).
Культурная оппозиция возникла раньше любой другой и проявилась с наибольшей активностью.
Переполненные редакции и издательства (Хрущев заявил, что на лагерные темы в журналы поступило более 10 000 воспоминаний) выплеснули поток авторов в самиздат.
Вообще термин «инакомыслие» неточен, потому что самым существенным в диссидентстве было инакословие. То есть в конечном счете – противопоставление общепринятому языку и стилю своего стиля и своего языка. С этим прежде всего связаны победы и поражения диссидентства – не конкретные и разовые, а глубинные и долговременные. В тех случаях, когда движение протеста принимало язык и стиль противника – оно проигрывало. Когда разрабатывало свои оригинальные методы – имело успех.
…Идее может противостоять только идея (не танки). Вопросы «формально-правового порядка» уместны в демократически развитом обществе. Диссиденты же, ведя себя как свободные люди в несвободной стране, опередили события. Проще говоря – проиграли. Но это в том случае, если считать целью победу. А целью и было средство – свободное поведение, создание прецедента, формирование общественного мнения. Но это уже и есть идея – нравственная оппозиция.
Отвечая на извечный вопрос российской интеллигенции – кто виноват? – самые последовательные из советских интеллигентов ответили: мы. Каясь и идя на жертву, диссиденты ни к чему не призывали, но являли пример.
…Несогласие с уродством социальной гаммы требовало реакции. Творческая личность противопоставляла несовершенному миру свои ценности. И высшая российская ценность - дружеское общение - легла в основу зарождающегося общественного мнения. Дружить с остроумными, талантливыми и смелыми людьми – само по себе достижение и честь. Дома известных диссидентов показывали девушкам в качестве главного аттракциона вечерней прогулки. Вхожесть в такую квартиру ценилась выше, чем пропуск в Дом кино. А дружба обязывала держаться на уровне.
Диссиденты были «передовым отрядом», еще более передовым, чем партия. Не случайно изрядную группу инакомыслящих составляли люди, исповедовавшие принципы ленинизма, для которых сомнения суммировались в вопросе: «Можно ли еще и легче ли бороться за настоящий коммунизм в партии или вне ее?» У самых разных людей способ был один. Генерал Григоренко: «Куда мы идем, что будет со страной, с делом коммунизма… Я начинаю искать ответы на эти вопросы и по старой привычке обращаюсь за ответами к Ленину».
Диссиденты заметно возвышались над толпой. Благодаря западным радиостанциям имена ведущих диссидентов стали популярны, как имена эстрадных артистов. Инакомыслящий стал общественной фигурой.
Характерно, что это произошло тогда, когда диссидентство еще существовало как локальные акты отдельных личностей, когда самой развитой организационной формой была веселая компания с неразделенным единством пения под гитару, выпивки, чтения стихов и сочинения писем протеста.
Эти веселые компании изменили общественный климат в стране. Нарушилось главное: закон молчания. Если раньше пределом гражданственной честности было неучастие, то теперь от порядочного человека потребовалось слово. Если раньше общественное мнение выражалось в лучшем случае в заговоре молчания, то теперь оно обрело язык.
Новый принцип – слово вместо молчания – стал главной заслугой диссидентства. Общество уже не могло быть таким же, как прежде: нельзя разучиться говорить.
Общественное мнение, основанное на произнесении слов, опиралось, естественно, на те слова, которые произносили лидеры инакомыслия. Это были простые и внятные речи, мораль которых сводилась к позднейшей заповеди Солженицына: «Жить не по лжи». Нравственные качества диссидентов задавали тон общественной жизни. Официальная идеология владела средствами пропаганды, но умами – общественное мнение. В такой атмосфере неудивительно было, что статья в «Известиях» изображала Синявского и Даниэля лицемерами, которые якобы в советской печати восхваляли советскую власть, а за рубежом, исподтишка, чернили. И непонятно было, что больше возмущает автора статьи – восхваление власти или ее очернение.
…Первым симптомом слабости диссидентского движения стал отход от принципа личной ответственности. Пока человек решает сам и только за себя, он свободен и вполне может петь непристойные частушки под гитару. Когда же он становится частью некоего ряда, выступает от некоего обобщенного имени и мнения – тут не до частушек и, незаметным образом, не до свободы. По Пушкину: «Зависеть от царя, зависеть от народа – не все ли мне равно…» Веселые диссиденты, осознав себя общественным явлением, стали относиться к себе серьезно. Инакомыслие превращалось в профессию.
Профессиональный подход неизбежно приводит к расслоению: самые способные и энергичные занимают командные посты. Иерархия, в свою очередь, как любая система, предполагает замкнутость – свои обычаи, правила, устав. Замкнутость порождает сектантство и непримиримость.
Логика жизни привела диссидентов к созданию организаций: это дало некоторый эффект (особенно позже, когда возникли Хельсинкские группы с четкой программой), но не зря инакомыслие так боялось организации.
Отказываясь противопоставить партии – партию, а идеологии – идеологию, диссидентство избегало прямого, в лоб, столкновения с властью и привлекало именно своей благородной непохожестью на нее. Насмотревшись на окружающее, каждый советский человек мог бы повторить вслед за П. Григоренко: «Я сыт партией по горло. Всякая партия гроб живому делу».
Тут и подстерегало главное противоречие. Партия – конечно, гроб. Но отсутствие программы неизбежно приводит к размыванию самой идеи противостояния: во имя чего, зачем и даже – кому? Стилевое отличие предполагает и создание особой формы – а ее-то найти и не удавалось. Более того – возникала грандиозная путаница и смута. Вот генерал Григоренко выступает перед крымскими татарами в столичном ресторане «Алтай». Его слова, обращенные к лишенному родины народу, смелы и прямы: «Перестаньте просить! Верните то, что принадлежит вам по праву!» На высокой ноте завершается вечер: «Зал гремел, бушевал. Но закончили «Интернационалом». И пели не только крымские татары, а все, кто был в то время в ресторане, – и посетители, и работники ресторана». Это в 67-м году!
С другой стороны – а что надо было петь? Отсутствие лозунгов – серьезная, даже решающая проблема. Если следовать нравственному императиву буквально – неизбежно столкновение с реальной жизнью, которая требует ежедневных компромиссов. А моральная правда по необходимости абсолютна и бескомпромиссна, так что следовать ей могут лишь единицы. При этом правда абстрактна: она не учитывает конкретное общество, имея в виду универсального, обобщенного человека – то есть не дает внятного ответа: как быть, что делать, кто виноват? В результате призывы типа «жить не по лжи» порождают нескончаемые теологические споры «что есть ложь? что есть правда?» и вязнут в этих дискуссиях. Кроме того, апелляции к совести сильно страдают от повторения, человек быстро перерастает нравственные постулаты – подобно тому, как стала литературой для детей басня. Взрослый человек не может обходиться одними поговорками.
Эта слабость подспудно ощущалась диссидентством. Но в качестве общественных лозунгов оно вынужденно использовало тот же набор идей, что и любые революции, – равенство, справедливость, законность. Тот же язык. Декларации протеста были фактически списаны с партийных документов – с обратным знаком. Гражданские стихи были слабым подобием Рылеева и Маяковского:
Это – я, / призывающий к правде и бунту,/ не желающий больше служить, / рву ваши черные путы,/
сотканные из лжи?.
Все это уже было. Все замечательные слова, все действенные лозунги, все зажигательные призывы – уже использованы. Использованы той самой властью, против которой следовало направить новые хорошие слова. А их, новых, не было. Известное самиздатское стихотворение «Коммунисты поймали парнишку…» с сочувственным издевательством передает слова юного диссидента: /…И свободного общества образ /
Нашим людям откроет глаза; / И – да здравствует частная собственность! - /Им, зардевшись, в лицо он сказал.
Проблема диссидентства решалась, как и положено в России, на уровне литературных штудий. Андрей Синявский на суде рассказывал о «фантастичности» русского народа, о том, что «пьянство – это другая сторона духовности». И, поддаваясь магии этого неуместного эстетизма, судья обсуждал с подсудимым цвет обложек его книг.
Эстетическая позиция раннего диссидентства сбивала власти с толку, потому что они не умели говорить на этом языке. А когда инакомыслие заговорило знакомыми и привычными – то есть старыми – словами, оно сделалось в полной мере инакомыслием, а не инакословием. И тут же – встало в знакомый ряд привычных врагов народа. В словаре русского языка к существительным иностранного звучания, вроде «контрреволюционеров» и «космополитов», прибавилось новое слово – «диссиденты».
А главное достижение оказалось внетекстовым: в Советском Союзе возникло общественное мнение. Носителем его стал фольклор – песня, анекдот, острота, просто разговор. Средой – компания друзей: общественный институт, обладающий настоящим авторитетом. Этот социальный феномен по определению не обладал программой, не отвечал и не был призван ответить на главные вопросы: «что делать?» и «кто виноват?»
Как выяснилось, средство диссидентства и было его целью…
И это не все. Авторы книги оценивают ситуацию внутри страны и за пределами глазами «тогдашнего» советского человека. Мы найдем рассуждения об Америке, Кубе, проедем по советской Сибири, вспомним одного из самых «диссиденствующих» писателей - А. Солженицына, поговорим о школе и том, что это такое – СОВЕТСКИЙ НАРОД и о многом другом, что сегодня интересно ностальгирующим по тем далеким 60-м…
А между тем в 1969 году…
Американские слависты Эллендея и Карл Профферы - основатели издательства «Ардис» - познакомились в Ленинграде с Иосифом Бродским. Сказать, что они сыграли важную роль в его жизни в годы, когда он после выдворения из СССР оказался в новой и не всегда гостеприимной среде – ничего не сказать. Их связывали 30 лет! Тридцать лет непростых отношений – а Профферы были очень близкими друзьями Иосифа Бродского - о них рассказывает в своей книге воспоминаний Эллендея Проффер «Бродский среди нас».
Проффер, Т. Эллендея. Бродский среди нас / Эллендея Проффер Тисли ; перевод с английского Виктора Голышева. - Москва : АСТ : CORPUS, 2015. - 220, [1] с., [16] л. ил., портр., факс., цв. ил. ; 18. - ISBN 978-5-17-088703-3.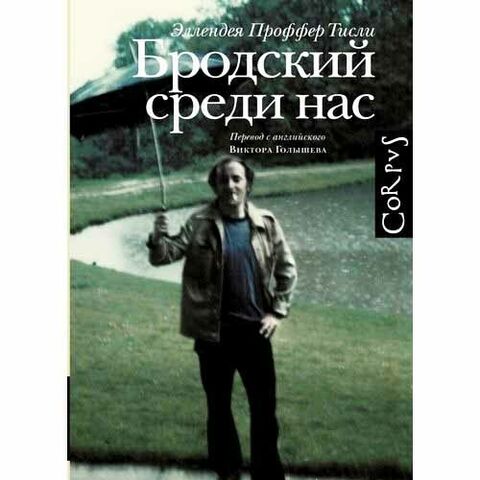
Но это было потом… позже. А тогда в Питере – нет, не в Питере, а в Ленинграде - проходил судебный процесс над очередным «инакомыслящим». Вот тогда, в самый разгар этого процесса очень невесело пошутила Анна Ахматова: «Какую биографию, однако, делают нашему рыжему!»
Кроме громкого суда противоречивая судьба уготовила поэту ссылку на Север и Нобелевскую премию, неполные восемь классов образования и карьеру университетского профессора, 24 года вне родной языковой среды и открытие новых возможностей русского языка.
Иосифа Бродского знают как русского и американского поэта, драматурга, эссеиста, переводчика. В 1987 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе - самым молодым литератором (47 лет). У его творчества множество поклонников, причем не только на родине, но и далеко за ее пределами. Бродский не только выдающийся русский поэт, но и очень значимая фигура в мировой поэзии. Его произведения переводились и издавались на всех основных языках. Он прожил трудную жизнь с преследованием, непониманием, ссылкой, эмиграцией. Однако это не сломило поэта, он сумел выстоять и стать по-настоящему знаменитым.
Первое стихотворение Бродского, которое пришлось не по душе властям страны Советов, называлось «Пилигримы» и вышло в 1958-м. Вслед за этим появилось еще одно – «Одиночество». В нем раздумья поэта о том, что происходит в его жизни и как дальше жить, когда двери печатных изданий закрываются у тебя перед носом.
В феврале 1960-го Бродского пригласили на ленинградский «Турнир поэтов». Он прочел со сцены стихотворение «Еврейское кладбище», которое стало причиной грандиозного скандала среди литературоведов и общественности.
Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.
В газете «Вечерний Ленинград» от 29 ноября 1963 года появилась статья «Окололитературный трутень», авторы которой клеймили Бродского, винили в паразитическом образе жизни, цитируя не его стихи и жонглируя выдуманными фактами о нем.
Там же цитировалась и его поэма «Шествие», а также приводились отрывки еще из нескольких произведений. Статья была написана так, будто Бродский питает любовь к чужбине, при этом поливая грязью собственную страну. В том же году после выступления на пленуме ЦК КПСС первого секретаря ЦК Никиты Хрущева среди молодежи начали искоренять «лежебок, нравственных калек и нытиков», пишущих на «птичьем жаргоне бездельников и недоучек». Мишенью стал и Иосиф Бродский, которого к этому времени дважды задерживали правоохранительные органы: в первый раз за публикацию в рукописном журнале «Синтаксис», во второй - по доносу знакомого. Сам он не любил вспоминать о тех событиях, потому что считал: биография поэта - лишь «в его гласных и шипящих, в его метрах, рифмах и метафорах».
Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.
В начале 1964-го та же газета напечатала письма, якобы присланные в редакцию возмущенными гражданами, которые требовали для Бродского наказания. Поэт очень тяжело переживал начавшуюся травлю. К тому же в то время у него произошло крушение личной жизни, от него ушла его любимая женщина – Марина Басманова. В полном отчаянии Иосиф даже хотел покончить жизнь самоубийством, но попытка оказалась неудачной.
В 1970-м он написал стих под названием «Не выходи из комнаты», где показал свои размышления о месте человека в советском обществе.
Через полтора месяца - 13 февраля 1964-го он был арестован и обвинен в тунеядстве. Спустя один день поэт чуть не умер в тюремной камере от сердечного приступа. Состояние поэта в то время нашло отражение в его стихотворениях: «Здравствуй, мое старение», «Что сказать мне о жизни?»
О подробностях процесса весь мир узнал благодаря московской журналистке Фриде Вигдоровой, которая присутствовала в зале суда. Записи Вигдоровой были переправлены на Запад и попали в прессу.

Судья: Чем вы занимаетесь?
Бродский: Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю…
Судья: Никаких «я полагаю». Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! <...> У вас есть постоянная работа?
Бродский: Я думал, что это постоянная работа.
Судья: Отвечайте точно!
Бродский: Я писал стихи! Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю…
Судья: Нас не интересует «я полагаю». Отвечайте, почему вы не работали?
Бродский: Я работал. Я писал стихи.
Судья: Нас это не интересует...
Свидетелями защиты выступили поэт Наталья Грудинина и видные ленинградские профессора-филологи и переводчики Ефим Эткинд и Владимир Адмони. Они пытались убедить суд, что литературный труд нельзя приравнять к тунеядству, а опубликованные Бродским переводы выполнены на высоком профессиональном уровне. Свидетели обвинения не были знакомы с Бродским и его творчеством: среди них оказались завхоз, военный, рабочий-трубоукладчик, пенсионер и преподавательница марксизма-ленинизма. Представитель Союза писателей также выступил на стороне обвинения. Приговор был вынесен суровый: высылка из Ленинграда на пять лет с обязательным привлечением к труду.

Выслали. Осел в Штатах. …Помогли Профферы….
Из разговора с Надеждой Мандельштам, вдовой поэта: «В этот день мы говорим ей, что едем в Ленинград.
- Раз вы едете в Ленинград, вам интересно будет познакомиться с Бродским.
Говорит так, как будто уже знает, что из этого подучится. А может – и вправду знает. Она мастерица связывать судьбы.
А тогда мы ничего особенного и не ждали. Ну еще один писатель, с которым надо встретиться. В Москве никто дольше не предлагал с ним познакомиться, хотя многие знали его лично. Мы читали его стихи и имеем представление о его биографии, о том, что его обвинили в тунеядстве и приговорили к пяти годам исправительных работ в архангельской деревне. Благодаря кампании в западной прессе его освободили через 18 месяцев. Тогда он и стал знаменит. За его судьбой следят Би-би-си и русские газеты в Париже и Нью-Йорке. Своей известностью он обязан записи судебного заседания, сделанной Фридой Вигдоровой, сделанной с большим риском для себя.
Но она не смогла вести запись до самого конца процесса – ей это запретили. Последнюю часть она восстановила по памяти с помощью еще нескольких свидетелей. Не будь этого документа, ставшего сенсацией в Европе, мир не прочел бы слов молодого поэта, такого беззащитного и в то же время полного достоинства, сказавшего, что он не тунеядец, а поэт и то, что он написал, сослужит людям службу не только сейчас, но и будущим поколениям.
Для западных литераторов в эпоху «холодной войны» ЭТО БЫЛО ПРОСТО ПОТРЯСЕНИЕМ. Для нас Бродский не был мучеником. Все зависит от контекста, а за те 6 месяцев, что мы соприкасались с советской литературной средой, контекст для нас решительно изменился. Например, германист и диссидент Лев Копелев провел в лагере 9 лет. Варлам Шаламов, единственный писатель, воистину претворивший кошмар в литературу, отбыл там почти 25 лет.
В 1966 году за публикации антисоветских произведений писатели Синявский и Даниэль были осуждены - первый на семь лет, второй на пять…
Надежда Яковлевна упоминала о Бродском несколько раз и говорила, что он настоящий поэт, но ему недостает дисциплины. Некоторые замечания для нас загадочны: Ахматова, утверждает она, оказала большое влияние на Бродского – в том смысле, как он себя держит. Она говорит, что он очень внимательно читал стихи и прозу Мандельштама.

Она дает нам его телефон и письмо. Скорее всего, там сказано, что с нами можно общаться. Своего рода, рекомендация.
У нас даже в мыслях не было отказать Надежде Мандельштам, сославшись на полное отсутствие свободного времени при посещение Ленинграда. Просто Надежда Яковлевна была первым нашим проводником по неведомому советскому миру, по ее звонку открывалось множество дверей и архивов.
Мы согласились встретиться с Бродским просто потому, что так хотела она…
1969 год. Ленинград. Комната Бродского.
Хозяин больше похож на американского выпускника. На нем голубая рубашка и вельветовые брюки. Очень западного вида брюки – прямо вызов режиму.
Бродскому – 29. Это интересный мужчина, рыжий, веснушчатый, что-то в нем от Трентиньяна. Личность его обозначает себя сразу – юмором, умом, очаровательной улыбкой. Курит беспрестанно и эффектно.
Самое замечательное в Бродском – решимость жить так, как будто он свободен в этой распростершейся на 11 часовых поясов тюрьме под названием СССР.
Иосиф словоохотлив и раним. Еврейский выговор его слышен сразу: мать рассказывает, что ребенком повела его к логопеду, но после первого же занятия он отказался к нему ходить.
Он постоянно смягчает свои высказывания, следит за нашей реакцией, ищет точки соприкосновения.
Есть и другой Бродский – дерзкий, высокомерный, грубый.
К русским поэтам отношение аудитории чуть ли не священное, влияние их можно сравнить с популярностью известнейших исполнителей авторских песен в США. Поэтам положено выступать, декламировать.
Читая свои стихи, Иосиф превращается в музыкальный инструмент, его звучный голос заполняет каждый уголок помещения. Голос завораживает. …
Поэт заявляет сразу, что он не диссидент – он не определяет себя к какой бы то ни было оппозиции к советской власти. Он предпочитает вести себя так, как будто этот режим вовсе не существует.
Из разговора стало понятно, что мы всего лишь последние из посещавших его иностранцев – до нас тут побывали и ученые люди, и просто приезжие из Европы из Северной Америки. Многие из них сыграют важную роль в его судьбе после эмиграции, но пока что они все – гости из свободного мира.
Я понимаю, что Бродский выступает перед нами, в то же время нас оценивает. При этом чувствуется некая застенчивость. Он физически беспокоен. Ходит по комнате, берет какие-то вещи, проводит рукой по волосам. Все его тело участвует в общении. Он-конкистадор по натуре, и скрыть этого не могут ни смущенная улыбка, ни нервная самоирония. Он КОЛОССАЛЬНО УВЕРЕН В СЕБЕ КАК В ПОЭТЕ.
…Несколькими днями позже он приглашает нас на вечеринку. В маленькой комнате теснятся три десятка людей, и нормальный разговор невозможен. Я не понимаю, зачем он нас позвал, - возможно, у него есть предчувствие, что мы будем что-то значить в его жизни.
Иосиф нервно пытается быть хорошим хозяином…
С шестью или семью людьми из компании у нас завяжутся отношения. Остальных я увижу лет через тридцать.
Карл отлично выдерживает нечто вроде группового допроса и в ответ задает свой излюбленный вопрос: кто-нибудь верит с свободу слова? Все сначала отвечают «да», а потом начинаются оговорки, да, но для саоистов, не для марксистов и т. д. Карл говорит, что в таком случает они не верят в свободу слова.
Друзья Бродского гордятся им чрезвычайно и говорят нам, что перед нами самый большой русский поэт.
Нам жалко расставаться. Мы уже привязались к нему и опасаемся за его будущее. За эту неделю выяснилось, что у него слабое сердце, он на пути к столкновению с государством, и он жаждет вырваться из страны.
Мы уезжаем из СССР. Короткая встреча с Иосифом. Вид у него немного грустный, сиротливый. Как будто думает, что мы можем забыть его. Напрасно огорчается: такая личность, как Иосиф Бродский, встречается раз в жизни, и трудно думать о нем, не прибегая к таким словам, как «судьба», потому что ими полон воздух вокруг него».
Кстати, очень интересно «вырисованы» образы двух писателей–соперников-«американцев» - Набокова и Бродского. Несколькими мазками – вот и портреты: «и Набоков, и Бродский были очень остроумными людьми. И очень чувствительны в том, что касалось их литературной чести. Оба самоуверенны, честолюбивы, в обоих ждал сильных дух соревнования».
До «Лолиты» материальное положение Набокова было шатким. Он перешел на английский из профессиональных соображений, понимая, что на эмигрантской аудитории не заработать, и в уверенности, что в СССР читателей у него не будет.

Набоков с детства говорил на трех языках – на русском, французском и английском. Английским был первым из трех. Проблемы ПИСАТЬ на английском у него не было. Совсем другая проблема – ТВОРИТЬ на английском.
Физически и психологически образ Набокова производил сильное впечатление. По его внимательности можно было предположить в нем писателя, но также легко было угадать аристократа и ученого – так оно и было на самом деле.
В отношении образованности и общей культуры он имел такие возможности, какие были недоступны Иосифу.
Этих двух русских писателей отличал их подход к миру.
Набоков был и художником, и ученым: его заботила точность. Иосиф старался познать мир через идеи о нем, которые у него уже сложились. Его не очень волновало, если какая-то деталь была ошибочной, – лишь бы поэтическая строка удалась.
Когда Профферы познакомились с Иосифом, он был очарован набоковской прозой. Но это кончилось после того, как он услышал об отзыве Набокова на поэму, которая была переправлена по дипломатическим каналам в июне 1969 года. «Горбунов и Горчаков», написанная под сильным влиянием Беккета (что упускают из виду русские исследователи), нам казалась шедевром – свой опыт пребывания в психиатрической лечебнице Иосиф претворил в нечто высокооригинальное. Эти стихи можно было читать как разговор двух пациентов сумасшедшего дома или как спор рассудка с самим собой.
Технически это беспрецедентное достижение: помимо всего прочего Бродский изобрел новую для русской поэзии строфу. Впечатление такое, будто поэт набрал полную грудь воздуху и выдохнул это длинное стихотворение, где рифма и метр - сами стали метафорами.
По возвращении в Америку Карл послал Набокову экземпляр, надеясь, что поэма понравится. Она не понравилась. Иосиф спросил Карла, как к ней отнесся Набоков. Карл передал отзыв Набокова по возможности более тактично, но Иосиф желал знать все. Набоков нашел массу изъянов в поэме, но постарался смягчить свою критику. Надо отметить, что оценка Набокова не так уж сильно отличалась от оценки Надежды Мандельштам. Но она почувствовала мощь в этом потоке слов.
Бродский не забыл и не простил этой критики. Он РАЗОМ ПОНИЗИЛ БЛЕСТЯЩЕГО ПРОЗАИКА Набокова до статуса НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ПОЭТА.
При всем, что у них есть общего, сравнивать этих двух писателей бессмысленно: «проза Набокова несравненно лучше прозы Бродского, а поэзия Бродского несравненно лучше поэзии Набокова».
Чем «глубже» уходишь в таинственные коридоры и зигзаги-лабиринты мыслей американских друзей Бродского, тем больше понимаешь, сколько неизведанного впереди. Отношения с поэтами-современниками, опять же. Ну не «давали» нам этого в советских филологических институтах! «Закрытыми» они были. Накрепко закрытыми. У меня «Доктор Живаго» в самиздатовском, журнальном, переплете (сестра подарила, когда я была студенткой, до сих пор перед глазами этот алый цвет). Помню, как открыла… и закрыла… честно, вздрогнула. Потом опять открыла. И все. Пропала. Читала запоем… На долгие годы – любимое произведение. Позже добавились «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита»… Отступила от темы… Нет, не отступила.… Та же тема, та же… Свобода слова. Что можно, а чего лучше опасаться…
Возвращаюсь в Бродскому, которого лично я совсем не знала. В те поры. Кроме общеизвестных фактов о неокончании школы, тунеядстве, судебном процессе и конечно, Нобелевской премии (до сих пор не понимаю, как ему дали премию. Быть НИКЕМ на Родине и стать ВСЕМ на чужбине…). Тем более интересно узнать все подробности жизни…
Любопытны его рассуждения: «он думал, что если бы вожди читали больше стихов и научились ценить язык как таковой, это могло уберечь мир от тирании». Эллендея Проффер говорит: «В этом размашистом утверждении отражается его честолюбие: ему мало, чтобы поэзия была искусством, удовольствием и утешением, он хочет, чтобы она вела к чему-то значительно большему. Известно его высказывание, что у прозы нет правил, - эта позиция возмущала прозаиков, читавших его мысли о превосходстве поэзии над прозой. При этом он часто говорил о желательности прозаического элемента в поэзии – чего-то в духе Достоевского. И ни разу, ни разу он не упомянул при мне «Евгения Онегина», самого прославленного романа в стихах».

В разговорах часто всплывало имя Анны Ахматовой. О ней он говорил, как будто осознал ее значение только после ее смерти. Она была первым знаменитым наставником Иосифа. В 1962 году, когда он с ней познакомился, она была ЕДИНСТВЕННЫМ КЛАССИКОМ РУССКОЙ ПОЭЗИИ: Пастернак умер в 1960-м. Некоторые друзья Бродского знали его лично. Но Ахматова, в отличие от Пастернака, была великодушна к молодым. Приехав в Оксфорд, где ей была присвоена почетная степень доктора, она подробно рассказала друзьям и знакомым о молодом Иосифе Бродском и так, что, когда он покинул Россию, путь ему был уже приготовлен.
Иосиф откровенно говорил, что не очень любит ее поэзию. Ахматова, чрезвычайно проницательная в том, что касалось ее отношения людей к ее стихам, видела, что его поэзия решительно отличается от ее собственной, обманчиво простой.
На него очень повлияла ее способность прощать людей, убивших ее мужа и отправивших ее сына в лагерь. Эту сторону ХРИСТИАНСТВА ОН УСВОИЛ БЛАГОДАРЯ ЕЙ.
В каком-то смысле она подготовила его к суду – показав, как подобает вести себя поэту. Но, что еще важнее, он признал в ней человека, который научит быть развитым человеческим существом.
PS.
Я еще много хотела бы говорить о книге, которая стала моей любимой. Не оторваться. «Бродский среди нас». Тогда, в 60-е, позже, в 90-е, сейчас, в 20-х годах XXI века… Много «интересностей» поведала нам американка Эллендея Проффер, знавшая поэта почти всю жизнь. И о его отношениях с женщинами, и о его болезнях, о его страсти к кошкам-котам. Тема Нобелевской премии в главе «Стокгольм, 1987»: «Иосиф хотел, чтобы я прилетела на церемонию; я сказала, что у меня нет денег, - это была правда, но были и другие причины: я все еще летела в пропасть после смерти Карла. С Иосифом я об этом не говорила – только самые близкие друзья знали, каково мне. Но Иосиф настаивал гораздо настойчивее, чем обычно. И прислал мне деньги на билет. И без большой охоты, среди зимы, я отправилась в столицу Швеции. Напрасно я сопротивлялась. Более счастливого Иосифа я не видела никогда. Он был ошеломлен, смущен, но, как всегда, на высоте положения. Я обрадовалась, что приехала. Оживленный, приветливый, выражением лица и улыбкой будто спрашивал: вы можете в это поверить?.. Иосиф танцевал со шведской королевой. Как такое могло случиться? Как рыжий ленинградский мальчик, отказавшийся ходить к логопеду для исправления еврейского выговора, подросток, в пятнадцать лет бросивший школу - как он очутился в Стокгольме? Мы знали, что одного таланта недостаточно – Пруста, Джойса, Борхеса и Набокова Нобелевский комитет не отметил. Люди литературные, мы верили в нечто, называемое судьбой, и это нечто совпало с убежденностью Иосифа в своем предназначении».
Или приезд 22-летнего сына Андрея Басманова к отцу в 1989 году, когда уже Советский Союз вовсю крушился, и это обстоятельство поразило всех нас. Сын, в последний раз видевший отца в пятилетнем возрасте… Встреча не задалась. Да и как могло быть иначе? Бродский раздражался: сын не читает. Он ничего не знает… Вот это было преступлением. Сыну полагалось быть полой копией отца, его гордостью. Не сложилось… Андрей улетел в Россию.
Перевернула последнюю страницу. Иосиф Бродский умер в своем кабинете. Остались жена, Мария Соцциани, Нюша – дочь (где-то там, на далекой родине, – Марина Басманова и сын)… И память. В Ленинграде и в США…. И везде….

