В начале было Слово. Да, слово. К великому сожалению, именно СЛОВО и явилось первопричиной всех бед начала 30-х годов XX столетия. СЛОВО – это Борис Зайцев и Иван Бунин, Марина Цветаева и Борис Пастернак, Николай Гумилев и Игорь Северянин и многие другие.
«Невозвращенцы» и «возвращенцы», подвергшиеся репрессиям, те, кто не принял новую Россию, но и не покинул ее в тяжелый час, те, кто попытался начать новую жизнь на чужбине, но не смог жить вдали от родины. ОН ТАМ был никому не нужен, собственно, как и здесь… Но ТАМ – это совсем не то, что «ДОМА». А «дома»… стали «врагами народа» в одночасье (могу предположить - потому, что СЛОВО оказалось сильнее всех других аргументов для… «чистки рядов»).
Как мы любили горько, грубо.
Как обманулись мы, любя,
Как на допросах, стиснув зубы,
Мы отрекались от себя.
И находили оправданье
Жестокой матери своей
На бесполезное страданье
Пославших лучших сыновей.
О. Берггольц (рупор блокадного Ленинграда. Была арестована беременной. Почти семь месяцев тюрем, допросов. Ребенок погиб в утробе. За что? Был бы поэт, а вина найдется)
Ведь ничто не предвещало, что Мандельштам станет поэтом времени во всех его измерениях - в особенности и в большей степени, чем все другие современники, поэтом своего времени: на первых шагах ребячливый и остроумный хронограф всего того нового - образы, жесты, действия - что привносила цивилизация XX столетия, затем испуганный наблюдатель великой ломки века, плывший против течения, пришвартовавшийся ко времени через отказ от него, требую¬щий права быть современником в неравной борьбе один на один с властями мира сего, смело выступающий в бой и даже, как некогда первохристианин, идущий на смерть, чтобы стать в полном смысле этого слова свидетелем, мучеником своего времени. Так, во всяком случае, говорит о нем автор книги «Осип Мандельштам» Никита Струве
Струве, Н. А. Осип Мандельштам / Никита Алексеевич Струве ; [перевод с французского]. - Москва : Русский путь, 2011. - 305, [1] с. : факс. ; 21. - Библиогр.: с. 302-303 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-85887-384-6.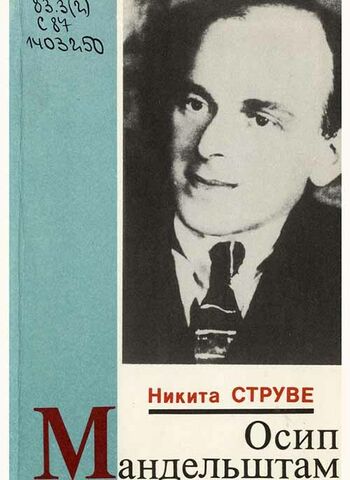
Известнейший французский русист, издатель и переводчик, публицист, исследователь проблем русской эмиграции и культуры России, относительно недавно, в 2016 году, покинувший сей мир. Для полноты картины добавлю, что Струве окончил Сорбонну и с 1950-х годов преподавал в Сорбонне русский язык. В 1963 на французском языке вышла книга Струве, посвящённая истории Церкви при советской власти («Les chrétiens en URSS»). Эта книга вызвала общественный резонанс во Франции, была переведена на пять языков. В 1979 году Никита Струве защитил докторскую диссертацию об Осипе Мандельштаме (издана на французском, впоследствии - в авторском переводе на русском языке). В том же году стал полноправным профессором Университета Париж X (Нантер), позднее - заведующим кафедрой славистики (кроме того, главный редактор журналов «Вестник русского христианского движения» и «Le messager orthodoxe». Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1999)).
Предлагаемая книга - автоперевод исследования о Мандельштаме, написанного на французском языке, представленного в 1979 году на соискание докторской степени парижского универ¬ситета и опубликованного в 1982 году.
Однако, основная концепция книги сложилась много раньше и была изложена в короткой статье на русском языке, напечатанной дважды, в качестве предисловия к III тому собрания сочинений Мандельштама(1968) (в переработанном виде она послужила предисловием и к «Избранному Мандельштама», Париж, 1983). Тезисы тогда же получили одобрение Надежды Яковлевны Мандельштам, супруги поэта, которая до самой смерти не переставала делиться с автором архивными данными и советами.
Издание трехчастно. Часть первая. «Судьба Мандель¬штама».
Понятие судьбы сегодня на Западе, склонном к голому формальному методу, мало популярно. В христианском преломлении, судьба не слепой рок, она предполагает высший смысл, таинственную синергию (сотрудничество) между велением Божьим и волей человека, свободное исполнение человеком Божьего замысла. Мандельштам не только не ушел от своей судьбы, он пошел ей навстречу, выбрал ее и овладел ею. 16 строчек о Сталине в ноябре 1933 года никак нельзя рассматривать как случайность, как безрассудное дерзновение: они сердцевина жизненного и творческого пути, его итог и предопределение. За последнее время в зарубежной критике наблюдается желание принизить подвиг Мандельштама: напоминают о его соглашательских настроениях в 20-х годах или о пресловутой покаянной оде Сталину, которой в 1936 году затравленный поэт надеялся смягчить свою горькую судьбу. В Советской России, где Мандельштам до 1987 года был все еще под запретом (одно единственное, и то неполное, издание стихов за полвека!), заговорили о нем как о предшественнике «социалистической перестройки»! Но тщетные попытки найти себе место в пореволюционных условиях, а после первого ареста необходимость «жить, дыша и большевея» - лишь неотвратимые соблазны и неизбежные отклонения на главном пути.
Судьба Мандельштама, разумеется, не ограничивается его гибелью. Она стоит в неразрывной взаимосвязи со стройным видением мира и с неповторимым, ни с каким другим не сравнимым голосом. Голос предполагает идею, идея не существует вне голоса, оба творят судьбу, но и, в свою очередь, творимы ею. Начав с судьбы, «располагающейся вокруг мученической кончины, как вокруг своего солнца и поглощая его свет», мы естественно переходим к тому, что эту судьбу определяет: то безусловно-христианское восприятие мира, которое и позволило Мандельштаму противостоять разрушительным силам века. Борьба с безвременьем была решающей в изменении голоса Мандельштама, который, не переставая крепнуть, достиг в московский и воронежский периоды «десятизначной мощи». Поэтика Мандельштама, как, впрочем, и всякого подлинного поэта, не сводится к приемам, а коренится в самых глубинах духа. В недавно опубликованном письме 1922 года, к запоздалому акмеисту, Мандельштам писал: «...акмеизма нет совсем. Он хотел быть совестью поэзии, он суд над поэзией». Исторические события заставили подлинных акмеистов пойти дальше: «быть одновременно и совестью века и судом над ним».
А ведь первые стихи Мандельштама, по крайней мере те, что он счел достойными войти в сборник «Камень», лишены красок, движения, находятся как бы вне времени и пространства. Они выплывают из тумана и тишины, на грани небытия, как первые созвучия Шестой симфонии Чайковского: Звук осторожный и глухой / Плода, сорвавшегося с древа, / Среди немолчного напева / Глубокой тишины лесной…
Мир, который Мандельштам пытается описать апофатически, отрицательными эпитетами - неопределен, неверен, почти иллюзорен, как детские игрушки. Он слишком беден, слишком пуст, отчего отказывается от самоутверждения, тянется к возврату в бесформенное, хочет развоплотиться, вернуться в царство теней. Личное бытие не более надежно: поэт сомневается даже в собственной реальности, даже в смерти, которая в каком-то смысле эту реальность удостоверяет: Неужели я настоящий / И действительно смерть придет? В этом неявном мире нет ничего абстрактного, головного, как в ранней поэзии 3. Гиппиус. Мандельштам любит переходное время дня или года, сумерки на склоне лета или на пороге весны, отсветы больше, чем прямой свет. В пустоте намечаются очертания, тем определеннее, что они редки: бирюзовая вуаль, небрежно брошенная на стуле, белизна тонких пальцев, ломающих бисквит или прядущих... Чаще всего это комнатные натюрморты, оживленные слабым движением. Поэт не отказывается от реальности, но она строго ограничена. Свою «бедную землю» он вынужден любить, «оттого что другой не видал». Самая непосредственная данность - тело, он воспринимает его как и заданность, что предвещает в будущем активное отношение к миру: Дано мне тело - что мне делать с ним, / Таким единым и таким моим? / За радость тихую дышать и жить, / Кого, скажите, мне благодарить? Я и садовник, я же и цветок, / В темнице мира я не одинок.
Музыка для него тоже находится на грани небытия, а ведь без веры в нее невозможно никакое творчество. Он ее нащупывает у самого источника, там, где она неотделима от безмолвия: «далеко от эфирных лир»: Я слушаю своих пенатов / Всегда восторженную тишь.
Мандельштам нарочито подчеркивает противопоставление между звуками и тишиной, чтобы передать музыкальность в ее исконной чистоте: Слух чуткий парус напрягает, / Расширенный пустеет взор / И тишину переплывает Полночных птиц незвучный хор.
Но эта апофатическая поэтика не имеет, как у Тютчева, философских корней. Мандельштам тут выступает как художник, причем как художник начинающий, который как бы боится воплощения. Если он склонен скрывать «мысли и мечты», если «ни о чем не нужно говорить», то это не из опасения быть непонятым, а чтобы предохранить чистоту «кристаллической ноты». «Silentium» Мандельштама не догмат и не приказ, а мечта о запредельном, точнее, проявление требовательности молодого поэта к самому себе. То, что музыка так неуловима, заставляет Мандельштама усомниться в реальности своего «я» и наполняет его терпкой печалью: Отчего душа так певуча / И так мало милых имен, / И мгновенный ритм - только случай. / Неожиданный Аквилон? Он подымет облако пыли, / Зашумит бумажной листвой / И совсем не вернется – или / Он вернется совсем другой.
Иллюзорный мир не может долго длиться без того, чтобы развеяться или, наоборот, определиться. К 1912 году в мироощущении Мандельштама происходит резкая, коренная перемена: туман рассеивается, тишина удаляется, чтобы уступить место конкретным чертам или полным звукам. Эта перемена в первую очередь определяется внутренней необходимостью, но она одновременно и знак времени. Мандельштам вступает на поэтическое поприще в кризисное для поэзии время: 1909-1912 годы знаменуют собой распад символизма и нарастание новых школ - акмеизма и футуризма.
Тем временем политическая ситуация деградировала, материальные условия становились невыносимыми, и многие представители интеллигенции стали искать прибежище на юге России.
Начинается эра расставаний, которая и в личной жизни Мандельштама, и для всей страны уже не будет знать конца. Мандельштам обессмертил ее заклинательным двустишием, которое столькие потом применили к своей судьбе: Кто может знать при слове - расставанье, / Какая нам разлука предстоит.

Расставание с родным городом, с близкими предполагает и новые - часто хрупкие - встречи: в Киеве, где собралось много столичных писателей, Мандельштам познакомился с молодой художницей, Надеждой Хазиной, которая через несколько лет станет подругой всей его жизни. Но междоусобица захватывает и Киев. Мандельштам расстается с Надеждой и ищет дальнейшее убежище в каменистой Тавриде, в Коктебеле, возле Максимилиана Волошина. Пока бушует гражданская война, работая на крымских виноградниках, Мандельштам отходит от злобы дня (если не считать методического описания Феодосии при Врангеле), противопоставляя ей вневременность поэзии и религиозной веры. В Крыму он прославляет бескорыстность поэтического творчества и вновь мечтает о золотом веке: Где только мед, вино и молоко, / Скрипучий труд не омрачает неба, / И колесо вращается легко.
В Крыму поэзия Мандельштама становится еще более христианской и находит себе опору по ту сторону времени. Сборник «Tristia» заканчивается прославлением православной литургики, панихид, молебнов, и в первую очередь великих служб Страстной Пятницы в Исаакиевском соборе в Петербурге.
Именно потому, что он погружается в глубинные, надысторические слои времени, Мандельштам не соблазняется эмиграцией: Недалеко до Смирны и Багдада, / Но трудно плыть, а звезды всюду те же.
Не дожидаясь неминуемого падения Крыма, Мандельштам вместе с Ильей Эренбургом перебирается в меньшевистскую Грузию. Оттуда он возвращается в разоренный Петербург, где старается приспособиться к новым условиям, без большого успеха. Если ему удается кое-как заработать себе на жизнь переводами, то и его поэзия, и все его вкусы остаются совершенно чуждыми официальной государственной линии.
Вдохновение слабеет. С 1921 по 1925 год Мандельштам сочинил всего лишь стихотворений двадцать, образующих своеобразный цикл, в котором обновляются и темы, и выражения. Цикл этот знаменует собой поворот в его творчестве: начинается та тяжба, которую время предъявляет поэту, или, обратно, которую поэт предъявляет времени.
Две основные темы в нем преобладают: угасание гармонии и смертельная рана века. Первое двустишие стихотворения, открывающего цикл, гласит без обиняков: Нельзя дышать, и твердь кишит червями, / И ни одна звезда не говорит.
**********
В феврале того же 1921 года, в своей речи, посвященной 83-летию со дня смерти Пушкина, Блок заявил: «Поэт умирает, потому что ему дышать нечем». «Уходя в ночную тьму», автор «Двенадцати» предостерегает новых чиновников от посягательства на этот раз не на «ребяческую свободу либеральничать, но на творческую свободу, на тайную свободу, необходимую поэту для освобождения гармонии». Присутствовал ли Мандельштам на этой исторической речи? Мы не знаем с точностью, хотя в те месяцы он находился в Петербурге. Так или иначе, мандельштамовское «нельзя дышать» на полпути творческой карьеры перекликается с блоковским «дышать нечем» перед началом его агонии. Уходящий символист и утверждающий себя акмеист соединились в общем согласном свидетельстве.
В этом первом программном стихотворении Мандельштам вспоминает концерты классической музыки, которые завелись в начале века в стеклянном холле Павловского вокзала и о которых он так красочно-тонко написал в «Шуме времени». В стихах - это сон, и, как часто бывает в снах, Мандельштам видит, что пришел слишком поздно: музыка еще слышна, но она «звучит в последний раз». И впервые в творчестве Мандельштама появляется тема страха: Я опоздал. Мне страшно. Это сон.
Мандельштам передает невозможность гармонии лермонтовским образом космической музыки, но наделяя его отрицательным знаком. У Лермонтова в ночной тишине «звезда с звездою говорит». У Мандельштама - обратное, «ни одна звезда не говорит», космическая гармония нарушена. Начав со скрытого упоминания блоковского «удушия», не имеет ли Мандельштам в виду в этом стихотворении и трагическую смерть поэта-друга Николая Гумилева? Только к нему может относиться выражение «на тризне милой тени». Таким образом мы имели бы здесь плач по обоим поэтам, расширяющийся до плача о всей поэзии. В цикле наблюдается напряженный внутренний диалог. Призывая Бога в свидетели - все в том же первом стихотворении, - Мандельштам удостоверяется: «... есть музыка над нами». Но в соседних стихах он уже сомневается: И подумал: зачем будить Удлиненных звучаний рой, В этой вечной склоке ловить Эолийский чудесный строй! «Какая боль... для племени чужого / Ночные травы собирать».
Поэзия как бы «уворована» у века, которому она не нужна. Чтобы выжить, поэзия должна пройти через распад своих составных частей: «розовой крови связь» и «травы сухорукий звон» - два взаимодополняющих образа, означающих: первый - источник, а второй - завершение вдохновения, - должны будут распроститься: первый «скрепится», а второй уйдет «в заумный сон». Эти смелые метафоры объявляют целую программу: одни стихи отныне будут звучать как вызов или окрик, другие обрастут зашифрованным языком как, например, «Грифельная ода».
Один советский критик справедливо отметил «развал» акмеизма: «Гумилев умер, Ахматова молчит. Мандельштам «Грифельной одой» пошел по новому пути». Трагическая гибель Гумилева, казненного за «противогосударственный заговор» через неделю после смерти Блока, вынужденная немота Ахматовой (если она и писала, то в стол), новая зашифрованная манера Мандельштама - по-разному отображают, до чего была доведена поэзия при новом режиме. Нам возразят, что мы имеем тут дело только с акмеистами и с определенным родом поэзии. Но самоубийство Есенина в 1925-м, а пятью годами позже тот же поступок Маяковского показывают, что акмеисты первые поняли и ис-пытали на себе новый статус поэзии, «единой и неделимой», по выражению Блока.
….
Несколькими годами позже Ахматова соединит свой голос с голосом Мандельштама: в «Реквиеме» она свою личную боль возведет в крик «стомиллионного народа». Но в самом начале 30-х годов, когда заканчивается порабощение литературы, Мандельштам действительно один из всех дерзает состязаться с историей. Духовная мощь, которая взрывает его поэзию, меняет и ее язык: восполнение уже не недостаточности, а провала истории, который «выше наших сил» (ведь в те годы идет геноцид крестьянства), предполагает равное восполнение недостаточности языка. Этим объясняется игра слов на грани фантастики, которая позволяет Мандельштаму заново определить песенную силу: небо - небесный свод, становится нёбом - внутренней сводчатостью рта... Удвоенная песенная мощь, дважды восполняющая и историю и язык, рот, пространный, как небо, проявляются в стихотворении «Ленинград», которое Мандельштам посмел не только написать, но еще и напечатать (по какой непонятной ошибке цензура его пропустила?) в «Литературной газете» (от 23 ноября 1931 г.). Двустишья-анапесты звучат жестко и однообразно, как погребальный звон, возвещающий гибель города, эпохи, тысяч личных судеб. Дыхание поэта сдавленное, задыхающееся, трагическое, но и победное.
Ленинград
Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда - так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей!
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! Я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса.
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Невольно напрашивается сравнение со стихотворением, посвященным Петербургу в 1918 году, в котором Мандельштам воспевал падение столицы. Но здесь речь идет уже не о вневременном Петрополисе, а о Петербурге-Ленинграде: заглавию «Ленинград» и прилагательному «ленинградский» противосто¬ит двойное симметрическое взывание к городу в исконном его названии «Петербург!» Нет больше «страшных высот», «мерцания звезды» и других космических метафор, наоборот, город-мученик врывается в нас, проникает в наше сокровенное бытие, вплоть до утробного, биологического.
Город, с которым поэт сроднился до того, что чувствует его в своих прожилках, навевает болезненные воспоминания детства: припухлые же¬лезы, рыбий жир. Детские слезы как бы сливаются со слезами, которые вызвало в нем возвращение в город, оказавшийся мертвым. Черные и желтые краски, привычные у Мандельштама в описании еврейской семейной среды и Петербурга (семья и город в его подсознании до некоторой степени слиты), сгуща¬ются вплоть до того, что становятся материей: деготь, желток. Торопливость зловещей встречи («скорей же» повторено дважды) ведет к центральному заявлению четвертого двустишья: «... я еще не хочу умирать». Это заявление перекликается с пушкинским «но не хочу, о други, умирать», однако тональность его иная. У Пушкина это интимная дума, смягченная дружбой и мечтой ό возможной любви; подлежащее отсутствует и перенесено на утверждение жизни: я жить хочу. У Мандельштама призыв Петербурга в качестве свидетеля придает заявлению общественно-магиче¬ский характер. В строке каждое слово существенно: как ярко выраженное подлежащее, так и наречие «еще», означающее, что в какое-то определенное, им самим выбранное время Ман¬дельштам даст свое согласие на смерть. Тут нет отказа от смерти, но желание превратить насильственную смерть в добровольный подвиг. Гумилев, вглядываясь в неизбежно тра¬гический исход человеческой жизни заявлял несравненное право Самому выбирать свою смерть.
************
О творческой манере Мандельштама можно говорить бесконечно долго; о нем создано немало ценнейших исследований, более полутора десятка книг и около сотни статей. Почти все они касаются лишь отдельных сторон или периодов его творчества или ограничиваются анализом отдельных стихотворений.
Задача, которую поставил перед собой Никита Струве, заключалась в том, чтобы дать посильно целостный подход к Мандельштаму. Правда, в стороне осталась эмпирическая личность поэта и подробности его биографии.
Чтобы восполнить этот пробел, авторский коллектив в виде приложения составили мозаичную картину трудов и дней Мандельштама из отрывочных сведений и немногочисленных воспоминаний о нем. Мало внимания, как отметили критики, уделено особенностям прозы Мандельштама: но несмотря на ее высокохудожественные качества, она все же лишь обрамление и комментарий к его стихам.
Книга изначально предназначалась для западного читателя - для русского читателя многое следовало выразить иначе. Перелагая на русский, Струве «со товарищи» исправили ряд ошибок и недочетов. Но писать новую книгу, заново формулировать уже раз «отлившиеся» мысли, не было возможности. Такой, какой она есть, т.е. переводной, а тем самым и вторичной, книга отдается на суд ее возможных новых читателей.
Вскользь чуть выше упомянули о биографии поэта. Никита Струве «оставил в стороне подробности», а Олег Лекманов - литературовед, профессор Школы филологии гуманитарного факультета НИУ ВШЭ, автор многих статей о поэтике Мандельштама и первого его жизнеописания - как раз наоборот: мастерски соединил воедино «внешнюю» и «внутреннюю» биографии поэта в книге «Осип Мандельштам: ворованный воздух»
Лекманов, О. А. Осип Мандельштам: ворованный воздух : биография : [16+] / Олег Андершанович Лекманов. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 461, [2] с., [8] л. ил., портр., факс. ; 22 см. - (Литературные биографии). - Библиогр. в конце кн. - Имен. указ.: с. 438-459. - ISBN 978-5-17-093222-1.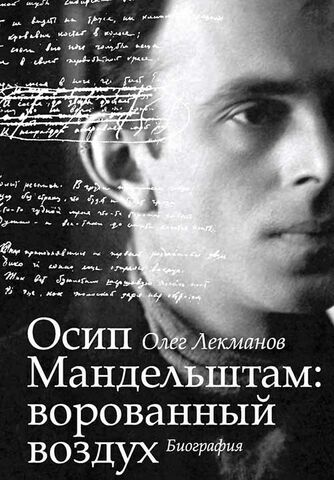
«Ослабленный физически и морально, Осип Эмильевич не был готов к страшной лагерной жизни, к страшной лагерной зиме. Когда-то в юности он почти риторически вопрошал: «За радость тихую дышать и жить / Кого, скажите, мне благодарить?»
В 1920-е годы поэт повторил и развил эти строки в одной из своих статей: «Ребенок кричит оттого, что он дышит и живет, затем крик обрывается – начинается лепет, но внутренний крик не стихает и взрослый человек внутренне кричит немым криком новорожденного. Общественные приличия заглушают этот крик – он сплошное зияние… <…> это вечное «я живу, я хочу, мне больно»».
Законы лагеря были устроены таким образом, чтобы внутренний крик человека прорвался наружу, чтобы «мне больно» возобладало над тихой радостью «дышать и жить».
По свидетельству В. Меркулова, «с Мандельштама сыпались вши. Пальто он выменял на несколько горстей сахару. Мы собрали для Мандельштама кто что мог: резиновые тапочки, еще что-то. Он тут же продал все это и купил сахару». Свидетельство Д. Злотинского: «Мы стали (очень быстро) замечать странности за ним: он доверительно говорил нам, что опасается смерти – администрация лагеря его хочет отравить. Тщетно мы его разубеждали – на наших глазах он сходил с ума». Свидетельство Д. Маторина: «Я говорил Мандельштаму: „Ося, делай зарядку – раз; дели пайку на три части – два“. А он пищу не по-человечески ел, глотал все сразу, а это, хоть и мало, все же 400 граммов! Я ему: „Ося, сохрани“. А он мне: „Митя, – украдут“. <…> Было и еще одно: он пал духом, а значит – все потерял».
Развязка наступила 27 декабря 1938 года. Из воспоминаний Ю. Моисеенко: «В ноябре нас стали заедать породистые белые вши. <…> Сыпной тиф проник, конечно, и к нам. Больных уводили, и больше мы их не видели. В конце декабря, за несколько дней до Нового года, нас утром повели в баню, на санобработку. Но воды там не было никакой. Велели раздеваться и сдавать одежду в жар-камеру. А затем перевели в другую половину помещения в одевалку, где было еще холодней. Пахло серой, дымом. В это время и упали, потеряв сознание, двое мужчин, совсем голые. К ним подбежали держиморды-бытовики. Вынули из кармана куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и на них написали фамилии: „Мандельштам Осип Эмильевич, ст. 58 (10), срок 10 лет“. И москвич Моранц, кажется, Моисей Ильич, с теми же данными». Свидетельство Д. Маторина: «А дальше за дело принялись урки с клещами, меня они быстро выгнали. Прежде чем покойника похоронить, у них вырывали коронки, золотые зубы. Снимали с помощью мыла кольца, если кольца не поддавались, отрубали палец. У Мандельштама, я знаю, были золотые коронки… И только потом хоронили: в нательной рубахе, кальсонах, оборачивали простыней и отвозили на кладбище без гроба. На Второй речке за первой зоной рыли траншеи – глубиной 50-70 см и рядами укладывали».
Так окончил свой земной путь Осип Эмильевич Мандельштам. Впереди ожидали долгие годы почти полного забвения на родине.
Перевернута последняя страница. На душе - уныло. «Покалеченная» душа. Известнейшего поэта…
********
А начинается бодро. Как, собственно, любая вещь, повествующая о том или ином герое века.
Надо признать: исследователь органично вплетает в ткань своего рассказа анализ стихов, а также малоизвестные факты, по-своему интерпретирует уже известные сведения, дает слово непосредственным свидетелям и участникам судьбы поэта - Н. Я. Мандельштам, А. Ахматовой, Э. Герштейн и другим.
Портрет Мандельштама - жителя Дома искусств - превратился в едва ли не обязательный атрибут многочисленных мемуаров о литературном и окололитературном быте Петрограда начала 20-х годов. Именно тогда в сознании большинства современников за Мандельштамом окончательно закрепилась репутация «ходячего анекдота» - «чудака с оттопыренными красными ушами», «похожего на Дон Кихота», - «сумасшедшего и невообразимо забавного». Можно только догадываться, скольких душевных мук стоила Мандельштаму подобная репутация. «Такое отношение допускало известную фамильярность в обращении, - писала Эмма Герштейн. - Но он же знал, что его единственный в своем роде интеллект и поэтический гений заслуживает почтительного преклонения. Эта дисгармония была источником постоянных страданий Осипа Мандельштама». «Почему-то все, более или менее близко знавшие Мандельштама, звали его „Оськой“, - недоумевал Николай Пунин. - А между тем он был обидчив и торжественен; торжественность, пожалуй, даже была самой характерной чертой его духовного строя».
Автор «Камня» приобрел в глазах широкой публики, а не только друзей-акмеистов, статус поэта-мастера. 22 октября 1920 года он читал свои новые стихи в Клубе поэтов на Литейном проспекте. Эти стихи впервые были по достоинству оценены Александром Блоком. Вспоминает Надежда Павлович: «С первого взгляда лицо Мандельштама не поражало. Худой, с мелкими неправильными чертами... Но вот он начал читать, нараспев и слегка ритмически покачиваясь. Мы с Блоком сидели рядом. Вдруг он тихонько тронул меня за рукав и показал глазами на лицо Осипа Эмильевича. Я никогда не видела, чтобы человеческое лицо так изменялось от вдохновения и самозабвения». А сам Блок внес в дневник следующую запись: «Гвоздь вечера - И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, «жидочек» прячется, виден артист. Его стихи возникают из снов - очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему). Его <стихотворение> "Венеция"». Характеристика «человек-артист» на языке Блока была едва ли не самой высшей из всех возможных похвал.
Пройдет не так уж много времени, и в литературном приложении к газете «Накануне» от 18 июня 1922 года появится такой отзыв о поэте: «По общему мнению, последние стихи Мандельштама - изумительное явление в современной русской литературе, аналогичное только разве прозе Андрея Белого».
 Стихотворения, которые Мандельштам читал в Клубе поэтов в октябре 1920 года, восхитили и молодую актрису Александринского театра Ольгу Николаевну Арбенину-Гильдебрандт: «Я его стихи до этого не особенно любила ("Камень"), они мне казались неподвижными и сухими <...>. Когда произошло его первое выступление (в Доме литераторов), я была потрясена! Стихи были на самую мне близкую тему: Греция и море!.. "Одиссей... пространством и временем полный..." Это был шквал. Очень понравилась мне и "Венеция"». «Я обращалась с ним, как с хорошей подругой, которая все понимает. И о религии, и о флиртах, и о книгах, и о еде, - пишет далее Арбенина. - Он любил детей и как будто видел во мне ребенка. И еще - как это ни странно, что-то вроде принцессы - вот эта почтительность мне очень нравилась. Я никогда не помню никакой насмешки, или раздражения, или замечаний - он на все был "согласен" <...>. О своем прошлом М. говорил, главным образом, о своих увлечениях. Зельманова, М. Цветаева, Саломея. Он указывал, какие стихи кому. О Наденьке <...> очень нежно, но скорее как о младшей сестре. Рассказывал, как они прятались (от зеленых?) в Киеве». Отметим попутно, что имени Ахматовой в приводимом Арбениной списке нет.
Стихотворения, которые Мандельштам читал в Клубе поэтов в октябре 1920 года, восхитили и молодую актрису Александринского театра Ольгу Николаевну Арбенину-Гильдебрандт: «Я его стихи до этого не особенно любила ("Камень"), они мне казались неподвижными и сухими <...>. Когда произошло его первое выступление (в Доме литераторов), я была потрясена! Стихи были на самую мне близкую тему: Греция и море!.. "Одиссей... пространством и временем полный..." Это был шквал. Очень понравилась мне и "Венеция"». «Я обращалась с ним, как с хорошей подругой, которая все понимает. И о религии, и о флиртах, и о книгах, и о еде, - пишет далее Арбенина. - Он любил детей и как будто видел во мне ребенка. И еще - как это ни странно, что-то вроде принцессы - вот эта почтительность мне очень нравилась. Я никогда не помню никакой насмешки, или раздражения, или замечаний - он на все был "согласен" <...>. О своем прошлом М. говорил, главным образом, о своих увлечениях. Зельманова, М. Цветаева, Саломея. Он указывал, какие стихи кому. О Наденьке <...> очень нежно, но скорее как о младшей сестре. Рассказывал, как они прятались (от зеленых?) в Киеве». Отметим попутно, что имени Ахматовой в приводимом Арбениной списке нет.
Арбенинское идиллическое описание отразило одну сторону взаимоотношений Осипа Эмильевича и Ольги Николаевны. Другая сторона - ведомая только поэту - нашла отражение в мандельштамовском стихотворении «Я наравне с другими...» (1920), обращенном к Ольге Николаевне. В этом стихотворении любовь изображена как мука, как пытка, но мука - неизбежная и пытка - желанная:
Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.
Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несу я,
Как жертву палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь.
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.
Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятеньи
Вишневый нежный рот.
Вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И все, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову.
В конце ноября 1920 года Мандельштам написал еще одно стихотворение, навеянное встречами с Арбениной:
В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы.
Впоследствии эти строки совсем с особым чувством станут вспоминать те обитатели Дома искусств, которые предпочтут «бархат всемирной пустоты» «черному бархату советской ночи». Разобранное на цитаты и растиражированное по десяткам эмигрантских мемуаров о Мандельштаме, стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова...» вызвало к жизни немало поэтических подражаний и ответов. Среди лучших - лаконичное десятистишие Георгия Иванова начала 1950-х годов:
Четверть века прошло за границей,
И надеяться стало смешным.
Лучезарное небо над Ниццей
Навсегда стало небом родным.
Тишина благодатного юга,
Шорох волн, золотое вино...
Но поет петербургская вьюга
В занесенное снегом окно,
Что пророчество мертвого друга
Обязательно сбыться должно.
Дом искусств служил пристанищем для Мандельштама до начала марта 1921 года. Год спустя он признавался: «Жили мы в убогой роскоши Дома искусств, в Елисеевском доме, что выходит на Морскую, Невский и Мойку, поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные. Не за что было нас кормить государству; и ничего мы не делали». Этот период вместил в себя интенсивное общение Мандельштама с Гумилевым, не слишком охотное участие в возрожденном Гумилевым «Цехе», а также несколько их совместных поэтических выступлений. Как воспоминание о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 году, кроме изумительных стихов к Арбениной, остались еще живые, выцветшие афиши того времени - о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком.
В марте 1921 года поэт уехал из Петрограда в Киев.
Из «Второй книги» Надежды Яковлевны: «Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг от друга мы не имели. Всякая связь между городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Эренбургами. Он поехал в Петербург и, прощаясь, попросил Любу <Козинцеву-Эренбург>, чтобы она узнала, где я. В январе Люба написала ему, что я на месте, в Киеве, и дала мой новый адрес - нас успели выселить. В марте он приехал за мной - Люба и сейчас называет себя моей свахой. Мандельштам вошел в пустую квартиру, из которой накануне еще раз выселили моих родителей - это было второе по счету выселение. В ту минуту, когда он вошел, в квартиру ворвалась толпа арестанток, которых под конвоем пригнали мыть полы, потому что квартиру отводили какому-то начальству. Мы не обратили ни малейшего внимания ни на арестанток, ни на солдат и просидели еще часа два в комнате, уже мне не принадлежавшей. Ругались арестантки, матюгались солдаты, но мы не уходили. Он прочел мне груду стихов и сказал, что теперь уж наверное увезет меня. Потом мы спустились в нижнюю квартиру, где отвели комнаты моим родителям. Через две-три недели мы вместе выехали на север. С тех пор мы больше не расставались».
*********
Двадцать второго октября 1938 года отчаявшаяся, изверившаяся Надежда Яковлевна написала Осипу Эмильевичу. Это было ее прощание с мужем: «Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память.
Осюша – наша детская с тобой жизнь – какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу?
Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом и его едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже, наша счастливая нищета и стихи. Я помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было еще холодно, и я мерзла в своей куртке (так ли нам предстоит мерзнуть: я знаю, как тебе холодно). И я запомнила этот день: я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды – это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю.
Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка – тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь…
Мы как слепые щенята тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячешная голова и все безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это было счастье – и как мы всегда знали, что именно это счастье.
Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному – одной. Для нас ли – неразлучных – эта участь? Мы ли – щенята, дети – ты ли – ангел – ее заслужил? И дальше идет все. Я не знаю ничего. Но я знаю все, и каждый день твой и час, как в бреду, – мне очевиден и ясен.
Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивала, что случилось, и ты не отвечал.
Последний сон: я покупаю в грязном буфете грязной гостиницы какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди, и, купив, я поняла, что не знаю, где ты.
Проснувшись, сказала Шуре (брату Мандельштама. – О. Л.): Ося умер. Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня. Знаешь ли, как люблю. Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе… Ты всегда со мной, и я – дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, – я плачу, я плачу, я плачу.
Это я – Надя. Где ты?
Прощай, Надя»
***********
Уже в феврале 1939 года Надежда Яковлевна твердо знала, что Мандельштам в лагере погиб. Отныне и на два следующих десятилетия едва ли не единственным смыслом ее существования станет сбережение неопубликованных произведений мужа. «Со мной живут стихи… Это тоже много. У других и этого нет», – писала Надежда Яковлевна Борису Кузину 8 июля 1938 года. «Стихи и прозу она твердила наизусть, не доверяя своим тайным хранениям, а некоторые – как стихотворение о Сталине, но не только его – не смея даже записать». Поэтому не должны удивлять панические строки из письма Надежды Яковлевны Кузину от 14 января 1940 года: «Борис, я начинаю забывать стихи. Последние дни я их как раз вспоминала. Очень мучительно. А некоторых я не могу вспомнить. И счет не сходится – нескольких просто не хватает – выпали».
Только после XX съезда изготовленные Надеждой Яковлевной списки стихов Мандельштама 1930–х годов наконец нашли своего читателя. Бессчетное число раз переписанные от руки и перепечатанные на машинке сотнями безымянных энтузиастов, эти стихи пошли широко гулять по стране, а вскоре и за ее пределами: представительные подборки стихотворений позднего Мандельштама по спискам, снятым со списков Надежды Яковлевны, были напечатаны в 1961 году в нью-йоркском альманахе «Воздушные пути», а затем, в 1963 году, в мюнхенском альманахе «Мосты»…
В который раз задумываюсь над тем, как ломались судьбы людей в сталинский период, перелистывая страницы книги о Мандельштаме. Не стала по некоторым причинам углубляться в детство и юношество поэта - посему предлагаю читателю самому получить удовольствие от общения с трудом Алексея Лекманова. Ведь мои эмоции – ничто по сравнению с теми, что предстоит испытать потенциальному ценителю творчества одного из самых известных представителей Серебряного века.
**********
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.
А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.
Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Ну признайтесь – слышали! Нет в бывшей Стране Советов и сегодняшней «обновленной» России человека, который бы не кивал головой в знак согласия, когда произносили: «Душа обязана трудиться и день и ночь». Прославился. Мне кажется, что именно эти строки Николая Заболоцкого запали в душу. Ведь повторяли, а, возможно, даже и не знали (перед теми, кто знал и знает, - «снимаю шляпу»), чьи именно слова.
А стихи Николая Заболоцкого. А вот еще:
Зацелована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина!
Не веселая, не печальная,
Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда моя сумашедшая.
Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою,
И слезами и стихотвореньями
Обожгу тебя, горькую, милую.
Отвори мне лицо полуночное,
Дай войти в эти очи тяжелые,
В эти черные брови восточные,
В эти руки твои полуголые.
Что прибавится - не убавится,
Что не сбудется - позабудется…
Отчего же ты плачешь, красавица?
Или это мне только чудится?
«Ну, - скажете вы, - это уж точно мы знаем. Слышали песню, даже подпевали». Точно. Прямо «народным» стал поэтом. Потому что народ поет его стихи. А называются «Признание» и посвящено жене Кате…
Вот в те же голодные 20-е, когда творили изумительные Анна Ахматова, Марина Цветаева, Игорь Северянин, Александр Блок, писал и он.
Один из сайтов предлагает следующую характеристику творчества поэта: «Среди поэтов и писателей XIX века можно выделить нескольких личностей, отличающихся нестандартными взглядами на жизнь, собственное творчество и политические события. Одним из таких людей считается Николай Заболоцкий, биография которого наполнена необычными событиями и сложными периодами. Судьба множество раз испытывала характер поэта, но тот выдержал все и добился признания».
Валерий Михайлов, автор первой биографии «Заболоцкий», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» удостоверяет: прав автор статьи – поэт выдержал все. Не сдал своих А ведь обвиняли не в чем-нибудь, в антисоветщине. 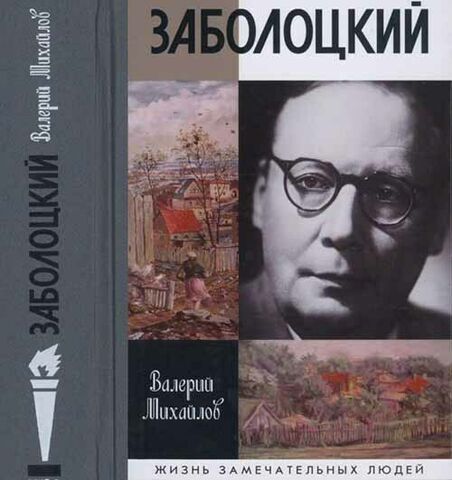
Михайлов, В. Ф. Заболоцкий. Иволга, леса отшельница : [16+] / Валерий Федорович Михайлов. - Москва : Молодая гвардия, 2018 [т. е. 2017]. - 651, [1] с., [16] л. ил., портр. : ил., факс. ; 21. - (Жизнь замечательных людей ; вып. 1876 (1676)). - Библиогр.: с. 648-649. - ISBN 978-5-235-04065-9.
Следует сказать, что биография - первая и очень удачная. Автор описывает все этапы становления и развития большого поэта и переводчика русской литературы, его окружение - друзей и недругов, сочувствующих и предателей, все перипетии его жизненного пути, что отражает сложность эпохи, в которой он жил.
« - Я только поэт… - однажды, под конец жизни, признался Заболоцкий. В записи Наталии Роскиной, близкой тогда ему женщины, а говорил он, по её воспоминанию, «в минуту душевного растворения», фраза немного длиннее. Но мы пока избираем именно эти начальные слова, потому что они важнее всего - и с точностью формулы выражают его существо, его душу, смысл и предназначение его жизни».
Он понял, что стал наконец поэтом в голодном и холодном Ленинграде 1920-х годов, когда начали появляться новые по качеству стихи, составившие позже его первую книгу «Столбцы».
А до этого были:
• рождение в Казани, недалеко от Кизической слободы 7 мая 1903 года семье агронома, трудящегося на ферме, и учительницы.
• детство в селе Сернул, которое располагалось в Вятской губернии. школьником издавал собственный рукописный журнал, в котором писал свои стихи.
• переезд в Уржум.
В 1920-м Заболоцкий перебрался в Москву, где сразу же поступил в университет, выбрав медицинский и историко-филологический факультеты. Что ему не понравилось в Москве, сейчас сложно сказать, но в этом университете Николай задерживается ненадолго.
Через некоторое время он перебирается в Петроград, поступает в Пединститут имени Герцена. Основным направлением выбирает иностранный язык и литературу. А ведь холодно-голодно было… Друг детства и юности, Михаил Касьянов, писал в своих воспоминаниях, как однажды в 1933 году в Питере пришёл с другом к Николаю в гости после долгой разлуки: «Посидели, поговорили. Вспоминали, как вместе голодали в Москве. Николай Сбоев прибавил, что и в Петрограде в 1921-1922 годах „мы с Николой (так он звал Заболоцкого) голодали немало“. Николай Алексеевич вдруг оживился и начал вспоминать, как он тогда голодал, лёжа от истощения в кровати, но и в то же время вырабатывал собственный стиль, так что время петроградской голодовки было для него плодотворным. Там, там из гусеницы рифмоплётства вылетела на божий свет чудная бабочка его поэзии!..»
В 1925 году окончил институт. К этому времени у него на руках была довольно объемная тетрадь со стихотворениями. Если верить самому автору, он считал их откровенно плохими.
А вот служба в армии пошла ему на пользу: «окреп, закалился, выработал выносливость. В летнем военном лагере в Красном Селе под Ленинградом была не только строевая подготовка, но и тактические занятия, стрельбы, пешие многокилометровые броски с полной выкладкой. Кто знает, не будь этого сурового мужского опыта, удалось бы ему или нет выдержать потом, после ареста, изнурительную до предела тяжесть лагерей?» Кроме того, Заболоцкий позже признается, что жизнь в казарме сыграла роль своеобразного катализатора, который подстегнул творчество, перевел его в другое направление. Николай нашел свой неповторимый стиль. В первые годы после службы он написал произведения, заслуживающие внимания.
В 1929 году вышла первая книга стихов "Столбцы". Ею Николай Заболоцкий раз и навсегда утвердил своё имя в русской поэзии. Признанный теоретик стиха и литературный критик Ю. Н. Тынянов подарил молодому поэту свою книгу с надписью: "Первому поэту наших дней".
Но "Столбцы" стали единственной книгой, которую Н. Заболоцкому удалось составить самому: новаторские опыты поэта подверглись жесточайшей идеологической критике. В прессе появились предположения, что произведения Заболоцкого призывают народ восстать против власти и существующего порядка.
В дальнейшем у него вышли ещё три сборника стихов, опять же сильно урезанные цензурой. Испытав на редкость драматическую судьбу (восемь лет заключения в ГУЛАГе), Николай Заболоцкий после долгого, вынужденного молчания сумел вновь вернуться к поэзии и создал в 1940-1950-х годах - уже в классической манере - десятки лирических шедевров. Знатоки литературы при жизни ставили Заболоцкого вровень с Тютчевым, Боратынским. А один из наших современников таким образом определил его место в русской литературе: "Боратынский - стал крупнейшим поэтом XIX века в XX, Заболоцкий - станет крупнейшим поэтом XX века в XXI". Что тут скажешь… Только одно: через тернии – к звездам!
Возвращаясь к «Столбцам», отмечу: доброжелательные отзывы о книге в скором времени прервались и напрочь исчезли. В печати послышались совсем другие голоса, и откровенная ругань со временем только крепла. А потом началась неприкрытая травля…
Впрочем, победно шёл по стране 1929 год - год великого перелома. После нэпа и форсированной индустриализации началась другая кампания - коллективизация на селе, поначалу заявленная добровольной, но уже вскоре сделавшаяся насильственной, сплошной. Партия дала установку: ликвидировать кулачество как класс, что по-русски значит - уничтожить. Сталин выдвинул руководящий тезис: по мере приближения к построению социализма классовая борьба будет только обостряться. Звучит солидно, по-научному, как открытие.
Впрочем, как же ей, этой борьбе, не обостриться, если одних мужиков тысячами ставили к стенке, а других, с многодетными семьями, десятками тысяч погнали под дулами винтовок туда, где Макар телят не пас. В ближайшие несколько лет население крестьянской страны уменьшилось на десять миллионов человек. Эту цифру назвал сам вождь в беседе с приезжим журналистом. Впрочем, цифра была приблизительной: всех не пересчитаешь…
Никита Заболоцкий, сын поэта, пишет, что первой книжке отца с годом выхода явно не повезло: сложное и совсем не подходящее было для неё время. Тут надо бы добавить: а позже такая книга и вообще бы не появилась в печати на свет божий…
«Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) моментально отреагировала на изменения во внутриполитической обстановке и использовала новую ситуацию для подавления тех явлений в литературе, которые не укладывались в прокрустово ложе рапповских требований, - справедливо замечает биограф. - В обращении к членам Всероссийского союза писателей рапповцы провозглашали: „Получилось так, что классовый враг создал для себя агентуру в рядах советской литературы. Получилось так, что некоторые попутчики восстановительного периода в реконструктивный период социалистического строительства… перестали или перестают быть друзьями, спутниками, попутчиками пролетариата - объективно смыкаются с враждебными ему силами“ („На литературном посту“, 1929, № 17)».
Рапповцы, а вслед за ними и общесоюзные издания сначала «били» из всех своих орудий по Борису Пильняку и Евгению Замятину - за «белогвардейщину», а затем под огонь яростной критики попал Николай Заболоцкий.
Один из критиков доказывал, что «уродливые фантасмагории и больные видения Н. Заболоцкого» отнюдь не «детские сказочки», что это поэт весьма хитрый, себе на уме, пытающийся обмануть читателя.
«Основная беда Заболоцкого - в пустоте и бесцельности его метаний. <…>
Вот почему книга „Столбцы“, при всех попытках её автора сохранить ироническую маску на своём лице, раскрывает перед нами образ отщеплённого от общественного бытия индивидуалиста, всё духовное бытие которого (в эпоху социалистической революции!) поглощено без остатка темнотой, пошлостью, животностью, сохранившимися в нашей действительности. <…>
Заболоцкий юродствует, кривляется, пародирует Козьму Пруткова. <…>
Такая позиция отщепенца-индивидуалиста обусловила и все стилевые особенности творчества Заболоцкого, которые социально чужды делу выработки стиля пролетарской поэзии, а технологически реакционны при всей бесспорной оригинальности их».
Литератор Никандр Алексеев, один из руководителей Западно-Сибирского отделения пролетарско-колхозных писателей, в «Комсомольской правде» (декабрь 1929 года) уже уверенно, как нечто не требующее доказательств, называл Заболоцкого «реакционнейшим поэтом»
Ярлык найден: отщепенец-индивидуалист… - многим критикам ещё пригодится…
Жанр литературной критической статьи плавно сливался с жанром политического доноса, и к середине 1930-х годов они (статья и донос) стали практически неразличимы. Так сказать, близнецы-братья…
Недаром ГПУ, а затем НКВД стали пользоваться при оформлении арестованных писателей, то есть при составлении обвинительных заключений, услугами литераторов (заметим, оформить - словцо из профессионального жаргона органов следствия, обозначающее - завести дело, подвести под трибунал. Причём «докладные» литераторов иногда становились главным доказательством виновности подозреваемого. Сколько среди таких литературных помощников органов было энтузиастов-добровольцев, а сколько призванных, равно как и то, насколько щедро поощрялись или оплачивались их услуги, в общем не столь важно. Важно то, что один из таких литераторов-экспертов (Лесючевский) сыграл роковую роль в судьбе Николая Алексеевича Заболоцкого. Произошло это в 1938 году…).
А. Горелов (секретарь Союза писателей Ленинграда; «Стройка», 1930, № 1): «„Безумие“ Заболоцкого нужно рассматривать не как приём изображения действительности, а как следствие распада некоего социального сознания. <…> Стихи его несут печать социального проклятия, они уродуют всё, что попадает в прокрустово ложе их строк…»
Это пристрелка, а вот прицельный залп: «Творчество Н. Заболоцкого - это огоньки на могилах. В процессе гниения трупа на поверхность земли прорываются газы, вспыхивающие голубым свечением. В этих могильных огоньках есть своя поэзия, своя красота. Стихи Н. Заболоцкого - те же могильные огоньки, светящиеся подлинной поэзией. Поэзией отчаяния. Н. Заболоцкий - один из наиболее реакционных поэтов, и тем опаснее то, что он поэт настоящий. <…> Весь строй этой поэзии находится в кричащем противоречии с жизненной доминантой наших дней. Поэзия безумия всесветной передоновщины, развиваясь, может уйти только в кривые закоулки откровенной мистики. Туда уходят «столбцы» поэта Заболоцкого».
Всех откровеннее был «лефовец младшего призыва» Пётр Незнамов, выступивший в журнале «Печать и революция» (1930, № 4) : «В поэзии у нас сейчас провозглашено немало врагов-друзей. Их, с одной стороны, принято приканчивать, а с другой - творчеству их рекомендуется подражать, - цинично рассуждал он. - Таков Гумилёв. В литературе он живёт недострелянным; и в ней сейчас бытуют не только его стихи, служащие часто молодым поэтам подстрочником, но и его формулировки».
Заболоцкий под огнём рапповской критики не терял присутствия духа. Публично он не отвечал - возможно, следуя аристократическому завету Пушкина: «Хвалу и клевету приемли равнодушно, / И не оспоривай глупца». Но завёл листок бумаги, куда выписывал «жемчужные зёрна» из статей и фельетонов про себя, вроде: «певец-ассенизатор», «отщепенец-индивидуалист» и т. д. «В компании друзей он важно зачитывал этот перечень, - пишет Никита Заболоцкий, - и все весело смеялись и шутили, хотя догадывались, что скоро им будет не до смеха».
Самое любопытное в истории травли поэта, что талант Заболоцкого не отрицали и самые яростные гонители поэта. Собственно, его стихи потому и вызвали волну оголтелой критики, что были исключительно даровиты, «радиоактивны». (Так, Михаила Булгакова, лишь только начала печататься его «Белая гвардия», забросали в печати десятками ругательных рецензий…) Подлинные глубины «Столбцов» открылись читателям и учёным далеко не сразу.
Иными словами, подлинную читательскую эмоцию – «не смех и не слёзы, а сияющую улыбку беспредельного удовлетворения», как говорил Набоков, - писатель может вызывать только эстетическим способом. Стихотворение - не пасхальное яйцо и не рождественская открытка, а хитро расставленная поэтом сеть, в которую ловится читательская душа. Если Заболоцкого и можно назвать «поэтом мысли», то под мыслью здесь следует понимать такую сноровку и смётку ловкого птицелова».
******
Ему было 25 лет - и он достиг своей цели: стал поэтом.
А в 1930 году, к удивлению друзей, Заболоцкий женится - на выпускнице педагогического института Екатерине Васильевне Клыковой, тремя годами его моложе. Так началось его возвращение к основам. «Вера и упорство, труд и честность» - вот жизненное кредо вчерашнего озорника-обэриута из его письма невесте (1928). На этих принципах и закладывается его брак, да ещё - на чисто крестьянском домострое. Пылкой влюблённости - не видим. Это был осмотрительный, хорошо рассчитанный шаг разумного эгоиста, согретый, понятно, взаимным влечением. Душа, главный человеческий капитал, вкладывалась в предприятие надёжное. Семья должна была стать щитом от внешнего мира, всегда чуть-чуть враждебного художнику, да и человеку вообще, иногда же - и просто кровожадного. И Заболоцкий не промахнулся. В 1932 году он пишет тому же приятелю: «Я женат, и женат удачно».
Первокурснице Кате Клыковой было 17 лет, когда она впервые увидела своего будущего мужа. Подруга кивнула ей на кучку парней-старшекурсников, что-то горячо обсуждающих…
…Родились сын Никита, затем дочь Наташа. Женщину вполне устраивал домостроевский уклад в их семье: муж запретил ей работать и ее профессией стало просто быть женой и матерью. Других ролей в этой жизни у нее не было.
Да простит меня читатель – я обойду стороной страницы, посвященные анализу виршей Заболоцкого. Просто отмечу, что в нашей стране мало БЫТЬ поэтом, надо еще быть поэтом, умеющим «ДЕРЖАТЬ ОБОРОНУ» и не сломаться.
В 1933 году Николай Заболоцкий опубликовал в журнале «Звезда» поэму «Торжество земледелия». Он писал жене 26 мая этого же года: «В Москве шум из-за «Торжества земледелия». Говорят, что «Звезда» впервые за все время ее существования на столах у всех москвичей; одни хвалят и очень, другие в бешенстве, третьи злорадствуют - мол, до чего докатились». По замыслу автора поэма должна была показать победу нового порядка над укладом дореволюционной деревни. Крестьянин не только стал свободным сам, но и освободил от труда животных: теперь он пахал и возил тяжести на тракторе, а не на лошадях или быках. В разгар коллективизации критики сочли «Торжество земледелия» насмешкой. Журналист газеты «Литературный критик» Елена Усиевич назвала поэму «злобной сатирой на социализм» и «пасквилем на коллективизацию». Тираж журнала изъяли, произведение запретили. А через несколько месяцев Заболоцкому не разрешили напечатать новый сборник «Стихотворения 1926–1932».
Наверное, Заболоцкий в самом деле верил, что коллективный труд преобразует село. Только, начиная поэму, он, конечно, не предполагал, что коллективизация по методам и скорости сразу же станет зверской. Да и что он знал о тогдашней деревне? Лишь редкие обрывочные сведения доходили до него от родных, впрочем, уже перебравшихся в областной город Вятку. Заметим также, что «городские» поэты не утруждали себя, сочиняя что-либо о сельской жизни. Надвигающуюся с коллективизацией трагедию, народную беду - Заболоцкий не почувствовал. Его занимало другое: литература, будущее разумное устройство жизни и мира, натурфилософия…
Сама по себе поэма, отмечает В. Михайлов, как художественное произведение - отнюдь не плоха: крепко сделана, нова, свежа, озорна, - но есть же ещё и правда жизни…
А может, Заболоцкий и впоследствии не понял, что за беда случилась в 1931–1933 годах?.. И вообще, знал ли правду?
В народе ведь тогда сочиняли другое - и куда как короче. То какую-нибудь горькую частушку запустят, вроде:
Мы в колхозе работа́ли,
Да и доколхозились:
Было двадцать пять лошадок,
Двадцать - уелозились.
То ещё короче - в четыре слова вместив ту самую правду жизни, которой нет в поэме: Серп и молот - Смерть и голод.
Единственное свидетельство о том, знал ли поэт что-либо по существу этой народной трагедии, загубившей почём зря миллионы крестьян, удалось отыскать лишь в книге Никиты Заболоцкого:
«При встречах друзей обойти в разговорах политические темы не всегда удавалось. Как-то в начале 1933 года к Заболоцкому пришёл Олейников и стал взволнованно говорить о положении в стране, о голоде на Украине и юге России, об отчаянном положении крестьян. Выходец из казаков, член партии, участник Гражданской войны, он лучше его друзей разбирался в событиях и теперь не мог сдержать свойственного ему яда и скептицизма. Это была опасная тема, которой лучше было не касаться, чтобы не будоражить скрытые сомнения. Но на этот раз была веская причина для разговора - Олейникова мобилизовали в продотряд, направляемый в деревни для изъятия у крестьян последних остатков хлеба, и он пришёл посоветоваться, как ему уклониться от участия в государственном грабеже. В конце концов после семидневного почти полного отказа от пищи он умело имитировал или вызвал подлинное обострение язвенной болезни и был забракован медицинской комиссией. Заболоцкий свято хранил тайну товарища и лишь спустя много позже рассказал о случившемся жене - в ней он был уверен».
Вот и всё…
Произведениям Заболоцкого как-то «не везло», они всегда оказывались не ко времени. Страшный голод гулял по деревням и сёлам, только что организованные колхозы были на грани развала - а тут вдруг печатается поэма под издевательским, с точки зрения власти, названием „Торжество земледелия“, в которой проповедуются совершенно новые, непонятные пролетариату цели преобразования сельского хозяйства. Критики искали в поэме классовую борьбу, партийное руководство строительством колхозов, победные рапорты об урожае, а находили жалобы быка и коня на их убогое существование, мечты о научной организации всей земной жизни и о воспитании разума животных. Поэт не ставил и не мог ставить перед собой цель отразить реальную трагедию насильственной коллективизации. А тем, кто писал о поэме, до реальности не было никакого дела, так же как и до натурфилософских концепций Заболоцкого.
При этом все прекрасно понимали, что стоит на кону: или ты жертвуешь поэзией - или пожертвуешь свободой, а то и жизнью.
Николай Алексеевич не хотел верить, что его мировоззрение и поэзия не пригодны для отечественной литературы, но и задуматься было над чем. И он надолго перестал писать собственные стихи.
***********
Середина 1930-х. Товарищ Сталин в юности был поэтом, и порой, в переходные моменты истории, это сказывалось в нём; так, в 1924-м, на похоронах Ленина, он выдал нечто, напоминающее стихи: «Помните, любите, изучайте Ильича - нашего учителя, нашего вождя!»
Свою крылатую фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселей!» - Сталин произнёс в самой середине 1930-х годов, по завершении коллективизации на селе.
Народ тут же добавил: «Шея стала тоньше, но зато длинней».
Тридцатилетнему Николаю Заболоцкому, как и всем в те годы, приходилось нелегко. Но, вдрызг разруганный за «Торжество земледелия» литературной критикой, он отнюдь не унывал, а крепко, широко и основательно выстраивал свою поэзию и обустраивал семейную жизнь. Конечно, он хорошо понимал и остро чувствовал, к чему могут повернуть события, происходящие в стране, да и звоночки уже были - аресты и ссылки друзей-обэриутов (которым, впрочем, вскоре смягчили наказание), однако сдаваться не желал, держал себя как ни в чём не бывало, не признавая за собой никаких грехов перед государством, тем более перед литературой.
1933-й - последний год раннего Заболоцкого: натурфилософские стихи и поэмы, которым, казалось, не будет конца - так слитно, мощно и полно они вырывались наружу, рисуя воображаемую поэтом картину мира и жизни, вдруг иссякли в нём или же, скорее, он, в поисках новой формы самовыражения, запретил их себе. Весь 1934 год - без стихов, если не считать наброска к поэме «Лодейников» и «заказного» рифмованного отзыва на гибель Кирова. Но без стихов, вероятно, таяло свойственное ему по молодости бодрое настроение…
Лишь в 1936 году наступило некоторое оживление. В этот период всю свою творческую энергию он направил на переработку для детей и юношества зарубежных классических произведений и на переводы иноязычной поэзии». Он пересказал для детей произведения «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле, «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта и «Легенда о Тиле Уленшпигеле» Шарля де Костера. Писатель Вениамин Каверин вспоминал: «Все, что перевел Заболоцкий, стало фактом русской поэзии, как это в свое время произошло с переводами Лермонтова, Жуковского». В 1937 году Николай Заболоцкий выпустил сборник «Вторая книга», куда вошло 18 стихотворений.
Между тем, шарик судьбы Николая Заболоцкого, прыгая, катился по каким-то неведомым желобам.
В 1938 году Заболоцкого арестовали.
«В общем коридоре, куда выходила их дверь, квартиры пустели одна за другой: соседей-писателей забирали в зловещее здание на Литейном, прозванное ленинградцами «Большим домом». Не прошло и месяца после статьи Ан. Тарасенкова в «Литературной газете», как настала очередь Заболоцкого.
- Эти товарищи хотят говорить с вами, - сказал Мирошниченко. Один из незнакомцев показал мне свой документ сотрудника НКВД.
- Мы должны переговорить с вами у вас на дому, - сказал он. В ожидавшей меня машине мы приехали ко мне домой, на канал Грибоедова. Жена лежала с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в чём дело. Сотрудники НКВД предъявили мне ордер на арест.
- Вот до чего мы дожили, - сказал я, обнимая жену и показывая ей ордер».
Так начинается мемуарный очерк Заболоцкого «История моего заключения», написанный 18 лет спустя, в 1956 году. Николай Алексеевич решил записать свои воспоминания вскоре после того, как прошёл XX съезд партии, осудивший политические репрессии конца 1930-х годов. Накануне он на собрании писателей вместе с другими услышал полузакрытое письмо ЦК КПСС о культе личности Сталина, пришёл домой взволнованный…
«Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я попрощался с семьёй. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Когда я целовал её, она впервые пролепетала: «Папа!» Мы вышли и прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались».
Никита Заболоцкий, ему было тогда шесть лет, запомнил, как забирали отца. Как перетрясали книги (в библиотеке было около двух тысяч томов), как изъяли тупой кинжал, подаренный грузинами. От матери он потом узнал, что она всё время сидела рядом с отцом, а под ними, в ящике кушетки, лежала «страшная улика» - переплетённая книга стихов Заболоцкого, куда была вложена записка Бухарина с отказом в помощи в издании рукописи. Бывший «любимец партии» был только что, в марте, осуждён и расстрелян, и кто знает, как могли истолковать следователи переписку с главой правотроцкистского блока.
«Начался допрос, который продолжался около четырёх суток без перерыва. Вслед за первыми фразами послышалась брань, крик, угрозы. Ввиду моего отказа признать за собой какие-либо преступления, меня вывели из общей комнаты следователей, и с этого времени допрос вёлся, главным образом, в кабинете моего следователя Лупандина (Николая Ивановича) и его заместителя Меркурьева. Этот последний был мобилизован в помощь сотрудникам НКВД, которые в то время не справлялись с делами, ввиду большого количества арестованных.
Следователи настаивали на том, чтобы я сознался в своих преступлениях против Советской власти. Так как этих преступлений я за собою не знал, то понятно, что и сознаваться мне было не в чем.
- Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не сдаются? - спрашивал следователь. - Их уничтожают!
- Это не имеет ко мне отношения, - отвечал я
Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил какой-либо посторонний следователь и узнавал, что допрашивают писателя.
Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, криков и брани, ссылался на права, которыми я, как и всякий гражданин, обладаю по Советской Конституции.
- Действие Конституции кончается у нашего порога, - издевательски отвечал следователь».
Поначалу его не били - изматывали морально и физически. Слепящий свет электролампы в глаза, требования сознаться под вопли истязуемых за стенами… Следователи сменялись, и он уже не слишком различал, кто сидит перед ним в темноте. На третьи сутки отекли ноги, и Заболоцкий от боли разорвал ботинки. Голова плыла, как в тумане. Все силы уходили на одно - никого из товарищей ненароком не оговорить… По вопросам следователей он понял: те решили, что писатели тайно создали контрреволюционную организацию или же пытаются сколотить дело таким образом. Во главе - Николай Тихонов, остальные участники - ранее арестованные Бенедикт Лившиц, Елена Тагер, Георгий Куклин, Борис Корнилов. Но дознавателям этого мало: нужны и другие враги, чтобы процесс получился крупным. У Заболоцкого добивались показаний на его друзей: Николая Олейникова, Даниила Хармса, Александра Введенского, расспрашивали про Тициана Табидзе. Ему зачитывали «изобличающие» слова из протоколов допросов Лившица и Тагер - он не верил и требовал очной ставки…
В тюремной больнице он укрывался одеялом с головой - думая, что только так можно спасти их маленькую дочь…
Врачи отделения судебно-медицинской экспертизы установили у «испытуемого» анамнез Морби: раздвоение сознания («переживал счастье, поглощённый домашними сценами, с другой стороны, понимал, „что видимое - подобие сна, а явь ужаснее“»).
Эксперты пришли к выводу, что он «перенёс острое психотическое состояние по типу реакции с перемежающимся сумеречным изменением сознания». После лечения с 23 марта по 2 апреля 1938 года врачи признали: душевно здоров и вменяем. Отметили: проявляет черты невропатии. И заключили: «В период правонарушения Заболоцкий Н. А. был также душевно здоров и вменяем».
Никита Заболоцкий пишет в биографии отца про одну санитарку, которая жалела больного и молча клала ему на тумбочку лишние куски сахара, и он съедал их…
Потом Заболоцкого вернули в ДПЗ и на время оставили в покое. Впрочем, какой покой? Поэт оказался в тесной камере, до отказа набитой людьми. Облака человеческих испарений и невыносимое зловоние поначалу поразили его. Заключённые, узнав, что новичок - писатель, привели к нему двух других литераторов - Павла Медведева и Давида Выгодского. «Увидев меня в жалком моём положении, товарищи пристроили меня в какой-то угол. Так началась моя тюремная жизнь в прямом значении этого слова».
«Уроки тюрьмы» – так называется очередная глава.
По ночам Заболоцкий ждал: вот-вот за ним придут. Опять допрос, брань, пытки. Каждого ожидал свой черёд…
Заболоцкого допрашивали ещё несколько раз. Теперь допросы проходили без побоев и мучений, - поэт по-прежнему отрицал все обвинения следствия. Как ни расспрашивали его о Федине, Маршаке, Олейникове, Хармсе, Введенском, Тициане Табидзе и других, он ничего не показал, что бы подтвердило, будто они «вредители». В его деле сохранился протокол последнего допроса от 22 июня 1938 года. На все наводящие вопросы о якобы «антисоветской деятельности», «антисоветской группе писателей», «контрреволюционной организации» ответ один: «отрицаю», «не признаю», «не знаю», «общение с Тихоновым было чисто деловым» и т. д.
В июле 1938 года подписано обвинительное заключение. В нём говорилось о ликвидации антисоветской «троцкистско-правой» организации среди писателей Ленинграда. Утверждалось, будто бы она была создана в 1935 году по заданию враждебного центра в Париже и оттуда же руководилась. Про Заболоцкого «установили», что он входил в одну из групп этой организации с 1931 года - то есть ещё за четыре года до её создания. И не только «являлся» автором антисоветских произведений, которые использовались для контрреволюционной агитации, но и по заданию троцкистской организации «осуществлял организационно-политическую связь с грузинскими буржуазными националистами».
Суда не было - так называемое Особое совещание «впаяло» поэту пять лет исправтрудлагеря.
С приговором его ознакомили только в начале октября - перед этапированием в исправительно-трудовой лагерь.
В августе прозвучала команда: «С вещами на выход!» - Заболоцкого переводили из ДПЗ в пересылочную тюрьму «Кресты».
Подробности пятилетних «хождений по мукам» упущу. Мне лично вполне хватило живописания пребывания в НКВД.
**********
Заболоцкий выжил. Это – главное.
А семья? Жена?...Лагерь, ссылка Николая. Ожидание, письма. Война, блокада Ленинграда, в котором находилась Катя с детьми. Бомбежки, холод, голод, болезни детей. Как она все это выдержала, сохранила жизнь двум детям?
В марте 1944 года Заболоцкий вышел на свободу, однако еще почти два года он не мог добиться разрешения вернуться в Москву. Все это время он жил в Караганде. Там писатель сделал блестящий, один из лучших перевод с древнерусского языка «Слова о полку Игореве».
В 1946 году Заболоцкий наконец переехал в столицу. На первое время его приютил литературовед Николай Степанов, который позже вспоминал: «Н.А. пришлось спать на обеденном столе, так как на полу было холодно. Да и сами мы спали на каких-то ящиках. Н.А. педантично складывал на ночь свою одежду, а рано утром был уже такой же чистый, вымытый и розовый, как всегда». Следующие несколько месяцев Заболоцкий жил на даче у философа Эвальда Ильенкова, потом у писателя Вениамина Каверина. В 1946 году Заболоцкий написал стихотворение «В этой роще березовой», в следующем - «Творцы дорог», «Город в степи» и «Я не ищу гармонии в природе».
Много, еще много событий произойдет в жизни поэта, среди которых: уход, а затем возвращение жены, Екатерины Клыковой, подорвавшие окончательно и без того «хлипкое» здоровье, вышедшие из печати очередные сборники стихов, оставшиеся незамеченными критиками, на что поэт отреагировал очень… «правильно», спокойно: «Для писателя, имеющего судимость и живущего под агентурным надзором госбезопасности, и такое издание книги было большим достижением».
В 1957 году вышла последняя прижизненная книга поэта «Стихотворения» - сборник из 64 произведений. В издание Заболоцкий включил и отредактированный перевод поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Вскоре поэта наградили орденом Трудового Красного Знамени «за выдающиеся заслуги в развитии грузинского искусства и литературы».
В 1958 году Николай Заболоцкий ушел из жизни. И только в 1963 году его посмертно реабилитировали.
************
В последнем стихотворении цикла - «Старость» (1957) воображение рисует ему желанную картину единства родных душ:
Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком она, -
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна.
Их речь уже немногословна,
Без слов понятен каждый взгляд,
Но души их светло и ровно
Об очень многом говорят. <…>
Тут и о животворном свете страданий, испытанных в жизни, и о том, что:
Изнемогая, как калеки,
Под гнётом слабостей своих,
В одно единое навеки
Слились живые души их.
Счастье чудится промельком зарницы: оно «такого требует труда!» - зато потухает быстро и исчезает уже навсегда.
В последних строках стихотворения - и всего цикла - мечтание о том, что так необходимо двум не уберёгшим своего счастья людям:
Теперь уж им, наверно, легче,
Теперь всё страшное ушло,
И только души их, как свечи,
Струят последнее тепло.
Надежда на новую - прежнюю - жизнь, которую он не мыслил без жены, не оставляла его:
Луч, подобный изумруду,
Золотого счастья ключ –
Я его ещё добуду,
Мой зелёный слабый луч.
(«Зелёный луч». 1958).
Завершаю…
20 января 1958 года он написал жене письмо:
«Милая Катя. < … > Многие мои стихотворения, по существу, как ты знаешь, мы писали с тобою вместе. Часто один твой намёк, одно замечание - меняли суть дела, и я всё делал по-новому. А за теми стихами, что писал я один, всегда стояла ты, и я писал их, чувствуя тебя рядом с собою. Спасибо тебе за это. Ты ведь знаешь, что ради моего искусства я всем прочим в жизни пренебрёг, и ты мне в этом помогла. Ты слишком долго помогала мне и устала. Но я не имею права уставать. Я целую твои руки, мой милый друг. Моё сердце полно благодарности и любви к нашему прошлому.
Ты дала мне очень много, и я благодарю судьбу за то, что ты была со мною. Я один виноват во всём, я беру на себя всю вину, и буду носить её на себе, и никогда и ни в чём не упрекну тебя. Прости же и ты меня, и дай тебе боже долгих дней и светлого счастья!
Теперь я спокоен и твёрд, и ты не должна беспокоиться обо мне. Я постоянно работаю, думаю, наши дети живут хорошо. Теперь настала моя новая, тихая, последняя жизнь. Мне спокойно. Спокойной ночи, мой друг!»...............
************
Круг писателей, подвергшихся репрессиям, постепенно сужается…
Ведь это было. Было совсем недавно. И очень давно…
Шаламов, Солженицын…
Патриархи советской литературы
Они, в моем понимании, в одной шеренге. Только имя Солженицына – конечно, у всех на слуху, учитывая заслуги перед Отечеством (за что и был «наказан»). А вот Варлама Шаламова… Сейчас, да. Вчера -… Да нет, конечно, знают.
В трагическом хоре голосов, воспевающих ужасы сталинских лагерей, Варлам Шаламов исполняет одну из первых партий. Автобиографические "Колымские рассказы” повествуют о нечеловеческих испытаниях, которые выпали на долю целого поколения. Пережив круги ада тоталитарных репрессий, писатель преломил их через призму художественного слова и встал в ряд классиков русской литературы XX века.
«В моей жизни не было никакой тайны. Я сторонник открытого боя», - заявлял герой книги Валерия Есипова «Шаламов».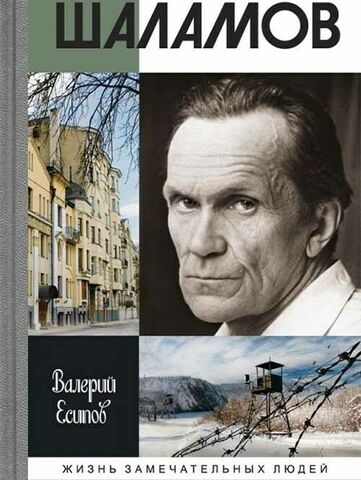
Есипов, В. В. Шаламов / Валерий Васильевич Есипов. - Москва : Молодая гвардия, 2012. - 344, [2] с., [8] л. ил., портр., факс. ; 21. - (Жизнь замечательных людей ; вып. 1574 (1374)). - Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-235-03528-7.
Сомневаться в этом, казалось бы, не приходится. Жизнь Варлама Шаламова - и та, что во множестве детальных подробностей описана им самим, и та, что встает за документами, справками, делами о его «контрреволюционных преступлениях» (и жестоких лагерных наказаниях), за горькими свидетельствами о литературном изгойстве 1950-1970-х годов (что было не менее тяжким испытанием для него), - вся открыта, как на ладони, и пусть с усилиями, но вполне поддается рациональному исследованию и толкованию. Его жизненный путь был не извилист, а прям, как и его характер - гордый, необычайно суровый и взыскательный к себе и к людям, не допускающий ни малейшего отступления от высшего понимания чести и правды. Недаром самый ненавистный из человеческих пороков для Шаламова - лицемерие, двоедушие, достигающие у представителей homo sapiens иногда (Шаламов считал - часто, непозволительно часто!) огромной артистической изощренности.
Автор, Валерий Есипов, российский писатель, журналист, сценарист, редактор, кандидат культурологии, публицист, один из ведущих исследователей жизни и творчества писателя, утверждает, что главное в биографии персоны - историческая точность, к чему и стремился, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Шаламова может быть по-настоящему осознан только в контексте времени.
Время, в которое ему выпало жить, совсем не располагало к людям, лишенным внутренней гибкости. Еще меньше оно располагало к писателям, избравшим путь независимого одиночества, - вопреки общепринятому групповому «роению», связанному, как правило, с разного рода политическими и житейскими соблазнами, с особыми литературными стратегиями и тактиками. А если писатель, нарушая все принятые конвенции, решался говорить самую горькую правду о совершенно запретной - до эпохи «оттепели», точнее, до эпохи пропагандистских манипуляций и информационных войн - теме сталинских лагерей и репрессий, он оказывался вне общества, в положении литературного маргинала или - если это слово понятнее - литературного «бомжа». Так было и с Шаламовым.
Столь же очевидна и непохожесть Шаламова на наиболее крупные имена как в русской, так и в зарубежной прозе, связанные с художественным воплощением основной проблемы XX века - проблемы взаимоуничтожения людей под влиянием идеологий, умирания и выживания в чудовищных условиях концентрационных или исправительно-трудовых лагерей. Его роль как истинного первопроходца в отражении этой проблемы в России, как писателя, наполнившего ее изначально «экзистенциальным ужасом» - страшным, мучительным и актуальным для всего человечества философско-трагедийным звучанием, и при этом решительно отказавшегося от каких-либо конъюнктурных политических спекуляций на ней, - сегодня находит все большее понимание не только в литературной науке, но и у рядового читателя. В связи с этим неизбежно возрастает интерес к личности Шаламова и его биографии.
Тайна Шаламова, безусловно, существует. Она прежде всего в самой его личности. Как мог вырасти он, выжить и состояться со столь могучей творческой силой в эпоху, которая перемалывала людей, как щепки? А главное - для чего он пришел в этот мир, для какого не пройденного еще людьми урока? Именно эти вопросы невольно возникают и настойчиво требуют ответа, когда мы говорим о писателях выдающихся, воплотивших в себе вечные искания человеческого духа. В этом смысле тайна Шаламова принадлежит, на мой взгляд, к тому роду и ряду тайн, которые окружают самые великие имена русской литературы и которые предстоит еще бесконечно долго разгадывать.
Биограф обязан опираться прежде всего на документ. К сожалению, основная часть семейного архива Шаламова (архива отца и матери) утрачена - она была сожжена родственниками в годы войны. После ареста Шаламова в 1937 году его жена уничтожила его первоначальный писательский архив. Еще раньше одна из сестер, Галина, сожгла юношеские рукописи (обо всем этом Шаламов рассказал в главе «Большие пожары» своих «Воспоминаний»). Поэтому так высока цена всего сохранившегося. На первом месте здесь материалы, в том числе неопубликованные, из архива писателя, переданные им в свое время (и затем дополнявшиеся) в Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). В качестве исторического контекста используются документы из ряда других хранилищ, из новейших фундаментальных, научно выверенных трудов по истории сталинских лагерей, а также из воспоминаний современников.
********
Начнем с родословной.
Необычное имя у писателя. Согласитесь. Удивительное, явно архаичное, в котором слилось и церковное, и языческое, происходящее из каких-то неведомых глубин лесной Руси.
А вот Шаламов не любил своего имени. Но как поэта его не могло не привлекать это редкое, с внутренней музыкальной перекличкой сочетание с фамилией, в котором столь осязаема игра любимых им звуковых повторов, напоминающая и крики шамана, и орлиный клекот. Осознание красоты своего первородного поэтического имени пришло к нему, вероятно, позднее, в 1960-е годы, когда стали выходить сборники стихов, выделившие его из сонма советских поэтов, и особым, ни на кого не похожим голосом, и резко своеобычной звукописью и семантикой родовой эмблемы.
Он родился в Вологде 18 июня 1907 года, в день памяти преподобного Варлаама Хутынского, новгородского монаха-пустынника, канонизированного в XV веке и почитавшегося на всем Русском Севере; происходил из потомственной семьи священников. Его отец, как дед и дядя, был пастырем Русской православной церкви. Тихон Николаевич занимался миссионерством, проповедовал алеутским племенам на далеких островах (ныне территория Аляски) и в совершенстве знал английский язык. Мать писателя занималась воспитанием детей, а в последние годы жизни работала в школе. Варлам был пятым ребенком в семье.
Имя «Варлаам», казавшееся в начале XX века столь же ветхозаветным, как Авраам, и вызывавшее поддразнивания со стороны всех, кто помнил пушкинского чернеца-бродягу из «Бориса Годунова», с ранних лет вызывало у Шаламова резкое отторжение. Здесь можно увидеть одно из проявлений конфликта будущего писателя с отцом-священником - конфликта, к которому нам еще не раз придется обращаться. Именно отец, свободомыслящий в мирских делах, но большой педант в ритуально-церковных и деспот в семейных, настоял на наречении младшего сына строго по святцам. Между тем - в чем и состоит интрига - мама хотела назвать его другим именем, и среди родителей некоторое время шла скрытая борьба. Об этом говорят обнаруженные недавно в фонде писателя в РГАЛИ дневниковые записи, имеющие выразительный заголовок «Почему я не стал Александром».
К сожалению, записи, сделанные Шаламовым на склоне лет, трудноразборчивы, ряд подробностей не улавливается, но общий смысл таков, что мама «приняла за счастье» родить ребенка, когда ей было уже почти 40 лет, и, если будет сын, намеревалась назвать его Александром «в честь своего отца». Вероятно, она рассчитывала, что роды состоятся ближе к дню рождения святого Александра Невского, который выпадал на 25 июня, а она разрешилась от бремени неделей раньше.
Но в итоге все зависело от воли священника, совершавшего ритуал. А ему, о. Сергию Непеину, вероятно, и было строго наказано, что мальчик должен быть наречен не иначе как Варлаамом, по дню появления на свет…
Все это вполне соответствует логике поведения отца, не терпевшего никакого прекословия в семье.
Имя, о котором мечтала мать, сыну нравилось гораздо больше. В тех же записях писатель вспоминал, что юношей «собирался выступать в театре под именем Александр Шаламов», а самым важным для него было то, что при этом условии он в жизни «избежал бы напрасных вопросов». Но единственное, что он смог сделать при получении первого профсоюзного билета в Москве (заменявшего в 1920-е годы паспорт) - убрать из имени одну букву «а».
Много можно говорить еще об экзотическом происхождении имени писателя, о его родословной. Оставим это для тех читателей, кого заинтересовала данная деталь биографии Шаламова (а не является ли этот факт прекрасным поводом для того, чтобы открыть книгу Есипова?
А мы пойдем дальше.
К своей генеалогии он относился безразлично. К церкви и религии был индифферентен, но терпим, а истинно верующих всегда уважал.
Что касается отца, Шаламов по-разному описывал причины своего конфликта с ним. Главное, что при этом победительной, перевешивающей стороной, гораздо более близкой юному Варламу, всегда оказывалась сторона матери. И это неудивительно: младший, последний сын был ее любимцем.
Сам Шаламов вспоминал: «Весь мой конфликт с отцом уходит в самые ранние годы, еще дошкольные, когда овладение грамотой в три года показалось отцу дерзостью непозволительной, а со стороны матери - ненужным педагогическим экспериментом. Материнский педагогический эксперимент был в том, что мне не давали игрушек - только кубики с буквами, из которых я складывал слова, играя у ног матери на кухне во время ее круглосуточной стряпни…»
Лишь с Варламом (несостоявшимся Александром) Надежде Александровне удалось осуществить свои заветные материнские и педагогические мечты. И это дало великолепные плоды! Ибо научить ребенка в три года читать столь простым, неназойливым способом - по кубикам, не отходя от печки и только подсказывая время от времени буквы, - для этого нужен был особый талант, никакими пособиями не учтенный. Собственно, школа у печки и стала базисом, на котором вырос будущий писатель, - ведь навыки чтения, усвоенные в столь раннем возрасте, намного раньше открывают путь к познанию мира и к формированию у ребенка других удивительных способностей. По крайней мере тот феномен, который чуть позже открыл у себя Варлам - способность к быстрому чтению («…в мое зрение попадают двадцать-тридцать строк сразу, и так я читаю все книги всю жизнь»), помноженный на феномен уникальных природных свойств памяти (он запоминал твердо и навсегда те же строки уже после второго прочтения, а все, что читал, видел и слышал в жизни, помнил в малейших подробностях - за редкими исключениями - до конца дней), во многом определил его огромный интеллектуальный багаж, который не смог ни подорвать, ни уничтожить даже колымский лагерь. И все это, повторим, благодаря матери.
Ей же принадлежит, бесспорно, и то, что называется воспитанием чувств, воспитанием души младшего сына. Сколько слов посвящено Шаламовым матери в благодарность за рождение в себе поэтического начала! (и сколько слов неприязни к отцу за то, что тот - от глухоты своей сердечной, от неискоренимого «позитивизма», прагматизма мышления - так старался это начало всячески погасить, убить!) «Мы, младшие дети - Сергей, Наташа и я - мы представители маминых генов - жертвы, а не завоеватели, представители высшей свободы по сравнению с грубой отцовской силой, - писал Шаламов о своем детстве. - У всех у нас выражено душевное, даже духовное сопротивление. Это-то сопротивление мы в семье и выражали. Наша формула такая: сначала жертва, а потом право на советы. Личный успех все мы ценили в грош. Именно потому что мы жертвы, мы не считаем нужным подчиняться…»
Патетика этих слов была рождена чувством постоянной жалости к матери, которое с ранних лет испытывал Варлам и которое, как можно понять, разделяли младшие брат и сестра. Причиной жалости была ее судьба - романтической гимназистки, красивой и умной женщины, вынужденной стать типичной «попадьей», резко погрузневшей с возрастом, больной и обреченной на роль прислуги при муже. Недаром Шаламов подчеркивал: «Мама любила стихи, а не ухваты».
Надежда Александровна была нелюдима, сторонилась всех, кто выходил за привычный домашний круг, и это - прямое следствие ее статуса «попадьи», много лет отрезанной от свободного мирского общения (не говоря о светском). При этом она была необычайно открыта, доверчива к каждому незнакомому человеку, видя в нем исключительно доброе («ангелом казался», «ложь людей ее пугала»), - черта идеалистки, сохраненная с юности благодаря опять же «законсервированности» своей жизни. С этим органично связана и склонность к мечтательности, вера во все чудесное на свете («фантазерка»). Но «ворожбу» и «знахарство», разумеется, нельзя понимать буквально - подобного рода увлечения никогда бы не допустил муж-священник и рационалист. Скорее речь идет о поэтизированной сыном обычной для женщин-матерей привычке прибегать к разного рода домашним лечебным средствам.
Сохранившаяся первая детская фотография Шаламова - возраста чуть более года - показывает, сколь он был обласкан и лелеем - как, впрочем, все младшие дети в каждой русской семье. К сожалению, не уцелело общих семейных фотографий, по которым можно было бы судить и о внутренней иерархии, и о других ярких личностях этой семьи. Больше всего жаль, что не осталось никаких изображений любимого брата Варлама - Сергея, который был легендарной фигурой во всей Вологде. Но тот портрет Сергея, что запечатлен в повести Шаламова о своей юности, - это великолепный художественный портрет, который многое компенсирует и является данью вечной благодарности младшего брата старшему.
Именно Сергей первым увековечил фамилию Шаламовых в Вологде. Ледяная гора, заливавшаяся каждую зиму на береговом обрыве напротив Софийского собора, строилась всегда под руководством Сергея по особым, диковинным для провинциального города инженерным правилам и потому называлась Шаламовской. Ледянка, огражденная сугробами и елками, подсвеченная электричеством, с которой можно было лихо пролететь на санях на противоположный берег - почти по типу американских горок, - была, как писал Шаламов, любимым зимним развлечением вологжан. А Сергей, естественно, стал любимым героем, слава которого распространялась на всю семью.
В 1917 году Сергей добровольцем ушел на германскую войну простым солдатом, потом, после революции, приехал домой и «поступил в Красную армию красноармейцем химической роты и был убит в 1920 году (осколком) от разрыва гранаты».
Надо сказать, что автор очень подробно рассказывает о всех домочадцах – членах семейства Шаламовых: отце-матери, братьях-сестрах писателя (интересно, поэтому призываю любопытного читателя не пройти мимо именного этого жизнеописания). И все же еще немного о брате…
Он погиб у станции Плесецкая, и отец, как вспоминал писатель, «сам ездил за телом». Это был самый любимый сын о. Тихона, потому что - кадьякский («миссионерский») и потому что - как отцу казалось - больше всего унаследовал от его собственного характера. Потрясение от смерти Сергея было огромным для всей семьи, в том числе и для Варлама. Но сильнее всего оно сказалось именно на отце - проплакав всю ночь дома над гробом Сергея («в епитрахили, измятой, перекосившейся», как писал Варлам), он ослеп.
Эта трагедия стала началом распада семьи. Ведь на Сергея возлагались главные надежды стареющих родителей. Он и так не раз спасал их от голода в самые тяжелые 1918-1919 годы - и своими охотничье-рыболовными добычами, и поездкой в Ташкент - «город хлебный», за продуктами.
На кого было надеяться отцу и матери в Вологде начала 1920-х годов? Только на Варлама. А ему? Только на них. Ослепший отец потерял всё - и должность, и пенсию, и весь круг старых друзей. Единственное, чего он не потерял, - ума и веры. И не случайно Шаламов замечал, что «чувство жалости за мать, красавицу, умницу, погруженную в горшки, ухваты, опару», с этого момента сменилось - «когда отец ослеп, эта острая жалость перешла к отцу».
Есть целый круг материалов, доказывающих, что Варлам - несмотря на всю жесткую мировоззренческую полемику с отцом (которую он ведет и на страницах «Четвертой Вологды») - многое впитал, перенял, усвоил именно от него. Та линия русской литературы (Достоевский), которая выводит происхождение так называемого «нигилизма», «радикализма» (или обыкновенного атеизма) из духа «семинарщины» (все это можно назвать скорее «антисеминарщиной»), имела определенные основания только в середине XIX века, а в начале XX обстановка была совсем иной. И коренные мировоззренческие расхождения Варлама Шаламова с его отцом - совершенно иного происхождения…
**********
Постоянное присутствие при отце, его домашних молитвах и служебных ритуалах, дало Варламу глубокое знание всех церковных канонов, таинств, евангельских притч и сообщило ему то общее уважение к религии, к людям истинно верующим, которое он пронес через лагеря и сохранил до конца дней. Но сам он оказался вне религии - и здесь можно сказать только одно: так получилось. Причин несколько. Шаламов признается, что среди них, пожалуй, первое место заняло его раннее увлечение искусством, литературой. Научившись читать в три года, он попал в иной, навечно захвативший его мир книг, который он - повторяя С. Цвейга - называл «опасным». Но он не боялся этой опасности - он ощутил в ней свое призвание, свою религию. Страстный монолог четырнадцатилетнего мальчугана, направленный против отца: «Я буду жить прямо противоположно твоему совету. Ты верил в бога - я в него верить не буду, давно не верю и никогда не научусь… Ты веришь в успех, в карьеру - я карьеру делать не буду - безымянным умру где-нибудь в Восточной Сибири… Ты жил на подачки - я их принимать не буду… Ты ненавидел стихи - я их буду любить», - весь пронизан стремлением защитить свою тайную и уже незыблемую приобщенность к Парнасу, к стихам - как «особому способу познания жизни, даже не познания, а существования, ощущения» («Четвертая Вологда»).
Так мыслил родившийся в семье нетипичного русского священника поэт Варлам Шаламов.
*******
А далее..
В 7 лет мальчика отдают в гимназию, но образование прерывается революцией и Гражданской войной, поэтому школу тот закончит только в 1923 году. Опыт детских и юношеских лет писатель обобщает в «Четвертой Вологде» - повести о ранних годах жизни.
«1918 год был крахом нашей семьи. Прежде всего это был крах материальный, - писал он. - Все пенсии за выслугу лет, за службу в Северной Америке были отменены и никогда более не воскресли… Семья осталась нищей внезапно. Самый обыкновенный голод - восьмушка хлеба, жмых, колоб стали едой нашей семьи… Мама моя превратилась в скелет с хлопающей по животу морщинистой кожей, но не унывала - варила и пекла, пекла и варила гнилую картошку».
Все обширное «гогочущее» хозяйство отца вмиг растаяло - было съедено или распродано. Осталось только несколько коз, напоминавших с печальной иронией о названии популярной книжки, имевшейся у отца: «Коза - корова бедняка»…
Такие же крахи, такие же голодные страдания переживала тогда вся городская, да во многом и сельская Россия. Но крестьяне, при земле-кормилице и устоявшемся хозяйстве, при врожденной привычке к запасливости, резко усилившейся мировой войной (несмотря на реквизиции и продкомиссарство, практиковавшиеся еще в ту войну), переживали эти невзгоды все же несколько легче. Иллюстрацией тому - а также и иллюстрацией начала формирования взглядов Шаламова на народ - может служить самый, пожалуй, жесткий и нелицеприятный (для народа и всех народников) эпизод, описанный в «Четвертой Вологде»:
«Одно из самых омерзительных моих воспоминаний - это посещение нашей квартиры крестьянами из ближних да и из дальних деревень. Новые хозяева мира хлюпали грязными валенками, толкались, шумели в наших комнатах, уносили наши зеркала. Вся мебель исчезла после их визитов… Вот тогда я хорошо запомнил, что такое крестьянство - вся его стяжательская душа была обнажена до дна, без всякого стеснения и маскировки».
Все это было увидено глазами одиннадцатилетнего мальчика - и ни тогда, ни позже, вероятно, не вызывало вопроса: «Почему?» Почему крестьяне вторглись в квартиру священника и вынесли всю мебель и зеркала? Было ли это воплощением лозунгов «экспроприации экспроприаторов» или «грабь награбленное»? Неужели местная власть разрешила проводить свободные реквизиции домашнего имущества у духовенства? В это мало верится. Скорее всего, речь шла о продаже или обмене - заведомо неэквивалентном - зеркал и мебели на муку или картошку. Варлама в это, видимо, не посвящали, и он видел лишь внешнюю сторону - вторжение чужих, неопрятных, жадных людей в уютную, обжитую квартиру, после чего она оказалась пустой. (Но случались и самореквизиции, то есть откровенный грабеж, особенно в моменты обысков кедровского периода - «все ценности вытаскивались цепкими руками», как писал Шаламов).
«Новые хозяева мира» - жестко, саркастично, но справедливо. По крайней мере юному Варламу было понятно, что социальная и культурная пирамида в России отныне перевернулась: «низам» дано больше, чем «верхам», пусть многие из последних и никогда не были «эксплуататорами». «Стяжательская душа крестьянина»? Резкое и непривычное обобщение, но только для тех, кто привык видеть в крестьянстве исключительно воплощение добродетелей. Трудно сказать, какие чувства испытывал во время этих сцен отец Шаламова, всю жизнь поглощенный идеей «долга народу». Варлам этой идеей никогда не увлекался и не страдал. Его отношение к деревне, к так называемому простому народу, к «Расее» - во многом сродни бунинскому или булгаковскому, трезвому и суровому, лишенному всяких признаков столь свойственного русской интеллигенции «народопоклонства». Шаламов - с первых юных впечатлений и до конца дней - в этом коренном для России вопросе представляет одно из редчайших исключений в русской, а тем более в советской литературе.
Школу Варлам окончил в 1923 году, одним из лучших - а точнее, лучшим - учеником. На сохранившейся фотографии выпускников ЕТШ № 6 второй ступени Варлам - на самом почетном месте, в белой рубашке (которую посоветовали надеть по такому случаю, видимо, родители). Сохранилась и его школьная характеристика: «Юноша с ярко выраженной индивидуальностью, энергичный, сознательный, с большими запросами, пытливым умом. Отличается большим развитием; по всем предметам работает очень хорошо. Имеет склонность к естественным наукам». Пора поступать в вуз.
Но тут случилось непредвиденное: прямым олицетворением дикой, нехристианизированной и воинственно-злобной «Расеи» (о чем говорилось выше) можно считать всевозможные нападки на отца, которому, по словам Шаламова, «мстили все и за все - за грамотность, за интеллигентность». Характерны заметки-доносы в местных газетах 1919 года под названиями «Поп в советском учреждении» и «Поп у книги», по-своему освещавшие просветительскую деятельность отца: о нем говорилось как о «служителе бога», «представителе касты самой ненавистной и самой злобной, в течение веков державшей народный ум в темноте и невежестве». Но еще более характерна история с местным заведующим губпросветом Ежкиным, который всячески препятствовал - и отцу, и сыну - при попытке получить для Варлама направление в вуз после школы. Сцена, описанная в «Четвертой Вологде», ярко иллюстрирует новые вологодские (и не только вологодские) нравы:
«Товарищ Ежкин был возмущен до глубины души такой наглой просьбой: "Поп в кабинете!" Голос Ежкина звенел:
- Нет, ваш сын, гражданин Шаламов, не получит высшего образования. Поняли?
Отец молчал.
- Ну, а ты, - обратился заведующий ко мне. - Ты-то понял? Отцу твоему в гроб пора, а он еще обивает пороги, просит. Ты-то понял? Вот именно потому, что у тебя хорошие способности - ты и не будешь учиться в высшем учебном заведении - в вузе советском.
И товарищ Ежкин сложил фигу и поднес к моим глазам.
- Это я ему фигу показываю, - разъяснил заведующий слепому, - чтобы вы тоже знали.
- Пойдем, папа, - сказал я и вывел отца в коридор…»
Формально Ежкин стоял на букве закона: о. Тихон был «лишенцем», то есть лишенным по Конституции РСФСР 1918 года избирательных прав (из-за своего священства), и эта дискриминационная мера распространялась и на детей «лишенцев»: им официально был закрыт доступ в высшие учебные заведения.
В Вологде Варламу пришлось остаться еще на год. Об этом потерянном годе в его биографии почти ничего не известно, кроме сожаления: «Выяснилось той же осенью, что все мои школьные товарищи - абсолютно все: из детей дворян, купцов, торговцев (тоже «лишенцев») - все поступили туда, куда хотели. У всех оказались какие-то связи, какие-то знакомства». Это лишний раз подтверждает, что в России во все времена умели обходить закон. Отец имел знакомства только в церковной сфере - он предлагал Варламу уже не медицинский, а духовную семинарию, используя связи с тем же Введенским. Но Варлам категорически отказался. Он решил ехать в Москву и для начала найти работу где-нибудь на заводе, пройти «пролетарскую закалку». С этим в конце концов согласились и родители.
В Москву он уезжал «ветреной дождливой осенью 1924 года в листопад боярышника, березы». Для его устройства в Москве на первое время были проданы два охотничьих ружья, оставшихся от брата Сергея. Из одежды - перешито пальто дяди Андрея Воробьева, второго брата матери, и сшиты две новые рубашки. Семья оставалась практически ни с чем. Золотой крест отца за службу на Кадьяке пока еще лежал - на самый черный день - на дне сундука.
Итак, Шаламов - в Москве, чему и посвящена глава четвертая под названием «Москва. Кипение и зыбкость 1920-х». Описание москворецкой жизни «по-есиповски» захватывает: «Москва сразу захватила его своей свободой - в отличие от Вологды она кипела жизнью. Шаламов много раз употребляет слово «кипение» по отношению к середине 1920-х годов. Первое же пребывание в центре столицы (от Кунцева до Каланчевки тогда ходил паровозный состав) дало ему возможность ощутить захватывающий темп жизни: трамваи и автомобили уже вытеснили извозчиков на окраины, но по улицам шли толпы народа, и одной из главных тем в газетах и в начавшем выходить «Огоньке» был призыв: «Граждане! Ходите по тротуарам!» Относилось это прежде всего к провинциалам, ярославцам и тулякам, одесситам и вологжанам, нахлынувшим в Москву кто учиться, а кто работать - в редакции и конторы, на стройки, большие заводы и маленькие фабрики, размножившиеся во время нэпа…»
Варлам тоже устроился на завод - Кунцевский кожевенный, принадлежавший Озерскому крестьянскому кооперативу Московской области. Он выбрал профессию дубильщика - вероятно потому, что отец в свое время научил его выделывать шкуры. «Дубильщик» - первая запись в его трудовой книжке и первый пункт его будущих анкет и официальных автобиографий. Жил у тетки в ее комнате при Сетунской больнице, но приходил сюда в основном ночевать, а все свободное от работы время старался проводить в столице, с жадностью познавая ее.
Смерти и похорон Ленина он не застал и вряд ли в то время думал о его политическом завещании. Но он застал смерть С. Есенина и был на его похоронах в предновогодний день 31 декабря 1925 года, в многотысячной толпе на Страстной площади, и наблюдал, как «коричневый гроб, привезенный из Ленинграда, трижды обносят вокруг памятника Пушкину, и похоронная процессия плывет на Ваганьково». У Варлама уже тогда возник вопрос, почему поэт, «хулиганство» которого не слишком поощряла власть, был так поддержан в свой последний день тысячами людей из самых разных слоев общества. Он писал: «Самоубийство поэта наполнило новым смыслом, живой кровью многие, многие строки его стихов. То, что казалось позой, на поверку оказалось трагедией». Для юноши, мечтавшего о литературе, это открытие было самым важным.
Первые месяцы Варлам успел поработать в Сетуни, в тогдашнем Московском уезде, учителем-ликвидатором неграмотности - с огромным энтузиазмом, равным, вероятно, энтузиазму отца в первые годы миссионерства на Кадьяке.
Читаю и ловлю себя на мысли, что улыбаюсь, понимая, что помню это: «Букварь 1920-х годов начинался не с обыденного «Мама мыла раму», а с гордых слов: «Мы - не рабы, рабы - не мы». Тому, кто постоянно читал эти слова на своих уроках, кто учил этим словам неграмотных стариков и старух, они не могли не врезаться в память на всю жизнь - как символ эпохи и символ ее надежд». Вот Шаламов как раз и ликвидировал неграмотность именно с этих строк букваря… Он даже в 1970 году написал стихотворение «Воспоминания о ликбезе», которое - после Колымы и «Колымских рассказов» - имело уже другой контекст и другой смысл: …Людей из вековой тюрьмы / Веду лучом к лучу: / «Мы - не рабы. Рабы - не мы» - / Вот всё, что я хочу…
************
Далее
А далее - с 1926 по 1928 годы получает высшее образование в МГУ, изучая советское право. Но из университета его исключают, узнав из доносов однокурсников о «социально неугодном» происхождении. Так репрессивная машина впервые вторгается в биографию писателя.
Примеров мимикрии, откровенного приспособленчества к законам новой жизни было огромное множество: тысячи и десятки тысяч людей пытались забыть или замаскировать свое прошлое, отвечая на главный пункт анкеты: «Чем занимался и чем занимались родители до 1917 года?» Пожалуй, самую феноменальнее всех «продвинулся» А.Я. Вышинский, в 1925-1928 годы бывший ректором 1-го МГУ - вуза, с которым так тесно связана ранняя биография Шаламова. Меньшевик, юрист, летом 1917 года занимавшийся по заданию Временного правительства розыском В.И. Ленина для привлечения его к суду, - фигура, явно подходящая под расстрел по законам нового времени, он сумел сделать блестящую (хотя и подлую, позорную, в конце концов) карьеру при советской власти. Многие историки склоняются к мнению, что способствовал этому Сталин, с которым Вышинский сидел вместе в Баиловской тюрьме в Баку в 1908 году. По крайней мере в 1920 году он без проблем вступил в РКП(б), и небольшевистское прошлое ему отныне не вспоминали. Уже в начале 1920-х годов Вышинский выступил обвинителем на нескольких крупных процессах, приведших к расстрельным приговорам, тогда же он возглавил юрфак МГУ и вскоре был избран ректором (разумеется, по распоряжению свыше).
Шаламов тогда плохо знал биографию Вышинского и вряд ли предполагал, что в университете ему придется столкнуться с очень большими неприятностями. Почему он решил поступить на юрфак (факультет советского права) - причем не на относительно нейтральное хозяйственно-правовое отделение, а на судебное, где готовили будущих вершителей правосудия, - вопрос, во многом остающийся загадочным. То ли его привлекала возможность слушать лекции некоторых старых профессоров - например, профессора истории права М.А. Рейснера - отца знаменитой Ларисы Рейснер, то ли решение исходило из его юношеского порыва готовить себя к борьбе за справедливость нового строя, основанного на законе, на соблюдении прав и свобод граждан. На самом же деле, объективно говоря, он шел в пасть ко льву или, точнее, к ягуару - ведь Андрея Вышинского, Януарьевича по отчеству, за глаза скоро стали называть Ягуаровичем - за его хитро маскируемую жестокость, за внезапные нападения на ничего не подозревающих людей - со всем блеском его природного циничного артистизма и красноречия, которым, вероятно, когда-то позавидовал и решил использовать Сталин.
********
Шаламову не дали учиться, «донесли», что он сын «служителя культа». Исключение состоялось 13 февраля 1928 года, и хотя основной формулировкой значилось - «за сокрытие социального происхождения», очевидно, что за этим стоял весь веер копившегося на него компромата, в том числе политического. Надо полагать, Варлам воспринял исключение без больших переживаний - перспектива служить закону, который обслуживает интересы Сталина, и идти стезей А.Я. Вышинского его вряд ли устраивала. В Москве у него сложилась уже своя внутренняя жизнь, о которой знали далеко не все его друзья. 
В 1927 году Шаламов участвует в акции протеста, приуроченной к десятой годовщине Октябрьской революции. В составе группы подпольных троцкистов выступает с лозунгами "Долой Сталина!” и призывает вернуться к истинным заветам Ильича. В 1929 году за участие в деятельности троцкистской группировки Варлам Шаламов впервые взят под стражу и "без суда и следствия” отправляется на 3 года в исправительные лагеря в качестве "социально вредного элемента”.
День ареста Варлам считал «началом своей общественной жизни - первым истинным испытанием в жестких условиях».
Следователь Черток (писатель прекрасно помнил фамилии всех своих следователей) направил его «для вразумления» в одиночку Бутырской тюрьмы и держал там почти месяц. «Вразумление» понадобилось потому, что Варлам отказался давать какие-либо показания относительно характера своей деятельности, связей и т. д. В протоколе приведен лишь его краткий ответ «по существу дела»: «Я считаю, что руководство ВКП(б) сползает вправо, тем самым способствует усилению капиталистических элементов в городе и деревне и тем самым служит делу реставрации капитализма в СССР. Я разделяю взгляды оппозиции. Был я арестован в засаде. На всякие вопросы, относящиеся к моей оппозиционной деятельности, я отвечать отказываюсь». Шаламова осудили быстро, уже 22 марта, по статье 35 Уголовного кодекса как «социально вредный элемент» на три года концлагерей. (Тогда слово «концлагеря» еще было в ходу и лишь в 1930-м заменено на «исправительно-трудовые лагеря».)
С этого времени начинаются его многолетние арестантские мытарства, затянувшиеся до 1951 года. Первый срок писатель отбывает в Вишлаге. На севере Урала заключенные участвуют в крупнейшей стройке первой пятилетки - возводят в Березниках химический комбинат всесоюзного значения.
В красках живописует автор подробности жуткого пребывания писателя в исправительно трудовых лагерях. Я, с вашего позволения, упущу эти моменты. А любителям «пощекотать нервы» предлагаю взять в руки книгу Владимира Есипова и прочесть все самим. Скажу только о том, что очередной срок осуждения Шаламова заканчивался в 1942 году, но заключенных отказались выпускать до окончания Великой Отечественной войны. К тому же писателю постоянно «пришивали» новые сроки по разным статьям: здесь и лагерное «дело юристов», и «антисоветские высказывания». В итоге срок писателя разросся до 10 лет.
За эти годы он успел сменить пять приисков в Колымских лагерях, кочевал по поселкам и шахтам в качестве забойщика, лесоруба и землекопа. Ему довелось отлеживаться в медицинских бараках как «доходяге», не способному ни на какой физический труд. В 1945 году, обессилев от невыносимых условий, с группой заключенных пытался сбежать, но только усугубило ситуацию и в наказание определяется в штрафной прииск.
Получив освобождение, но будучи пораженным в правах, писатель еще полтора года работает в Якутии и копит деньги на билет в Москву, куда вернется только в 1953 году.
Отбыв первый срок заключения, Шаламов работал журналистом в московских профсоюзных изданиях. В 1936 году был опубликован его первый художественный рассказ на страницах «Октября». Двадцатилетнее изгнание повлияло на творчество писателя, хотя и в лагерях тот не оставлял попыток записывать свои стихи, которые лягут в основу цикла «Колымские тетради».
Программным произведением Шаламова по праву считаются «Колымские рассказы». Этот сборник посвящен бесправным годам сталинских лагерей на примере жизни узников Севвостлага и состоит из 6 циклов («Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира» и т.д.).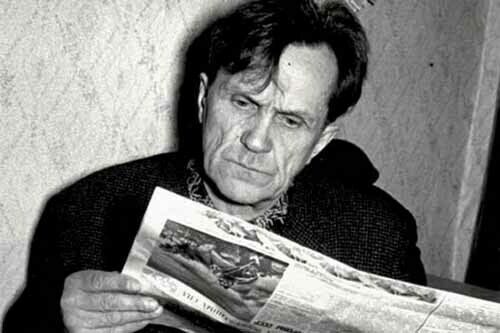
В нем художник описывает жизнь людей, сломленных системой. Лишенный свободы, опоры и надежды, изможденный голодом, холодом и непосильным трудом, человек теряет свое лицо и самую человечность - в этом писатель глубоко убежден. В заключенном атрофируется способность к дружбе, состраданию и взаимоуважению, когда вопрос выживания выходит на передний план.
********
В заключение…
«Несколько моих жизней» - так назывался один из вариантов автобиографии Шаламова. Их было действительно несколько, этих жизней - в разных эпохах, до грани умирания и счастливого воскрешения, от полной беспросветности до больших и малых надежд. Но последний отрезок его земного пути - из рода тех, о которых (как он писал о лагере) людям надо бы «ни знать, ни помнить». Такого страшного, мучительного конца не выпадало в мирное время никому из выдающихся писателей. «…Уж лучше посох и сума», - заклинал когда-то Пушкин. Но ни посоха, ни сумы у Шаламова не было…
В последние годы жизни состояние здоровья писателя было крайне тяжелым. Десятилетия изнурительных работ на пределе человеческих ресурсов не прошли даром.
«Спокойно пожить», как настаивала когда-то первая жена Галина Игнатьевна Гудзь, и к чему он стремился, времени почти не оставалось. Основной диагноз, поставленный еще в 1957 году в Боткинской больнице, - болезнь Меньера, был подтвержден в 1970 году профессором Л.Н. Карликом, который выписал ему специальную справку на случай происшествий на улице: «Пенсионер Шаламов Варлам Тихонович, 1907 года рождения, страдает болезнью Меньера, выражающейся во внезапно наступающих приступах: внезапное падение, головокружение, тошнота, иногда рвота, резкое снижение слуха, нарушение равновесия.
В случае появления приступа на улице или в общественных местах просьба к гражданам оказать больному помощь: помочь ему лечь, положить его в тень, голову обливать холодной водой, ноги согреть. Вынести на свежий уличный воздух из душного помещения, только не на солнце. Не усаживать и не поднимать головы. ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ!»
Справка, которую Шаламов постоянно носил с собой, оказалась для него незаменимой, потому что его, с бросками при ходьбе, потерей координации и падениями, нередко принимали за пьяного и вызывали милицию. Но в начале 1970-х годов такое случалось еще нечасто. Резкое ухудшение здоровья началось в 1977 году, когда он теряет зрение и слух, вслед за последней для него радостью, которую он ждал и которая его как-то мобилизовывала (испытывая трудности с речью и координацией, Шаламов все же не оставляет попыток писать стихи), - выхода сборника стихов с многозначащим названием «Точка кипения». Он успел, по обычаю, разослать и раздарить сборник своим близким знакомым, и на этом «точка кипения» его жизни была пройдена - началось быстрое и ничем не остановимое угасание могучих и казавшихся неисчерпаемыми человеческих сил.
Учитывая, что писатель больше не способен координировать собственные движения и с трудом перемещается, в 1979 году друзья и коллеги перевозят его в дом престарелых: «И все-таки наступил день, когда он согласился отправиться в «богадельню», поняв (вернее, ощутив инстинктивно, как лагерный доходяга), что он уже неподвластен себе, что его гордый принцип: «Одиночество - оптимальное состояние человека» - в таком возрасте и в таком состоянии уже окончательно теряет силу…»
О его отъезде в дом престарелых И.С. Исаев, один из друзей, вспоминал сдержанно: «Я молча собрал все, что можно было собрать. Все его носильные вещи уместились в старый чемодан и рюкзак. Демисезонное пальто, покрытое серым пухом, и шапку из овчины он надел на себя, хотя жара в квартире и на улице была не меньше 30 градусов…» Во дворе не обошлось без внимания любопытных старух. И.С. Исаев писал: «Жена потом сказала, что какая-то старуха, глядя на Шаламова, спросила: "Да что же это он такой?" Другая ответила: "А разве он виноват, что Сталин дал ему кровавую путевку в жизнь". После такого определения старухи запричитали, заахали. А жену мою спросили: "А вы здесь кого представляете?" Она ответила: "Колыму". "А-а-а", - протянула спросившая и покачала головой».
В этой сцене гораздо точнее поставлен диагноз болезни Шаламова - не медицинский, а социальный. Никакой клиницист не смог бы, наверное, отрицать, что главная причина катастрофического ухудшения здоровья Шаламова связана с его неимоверными лагерными и послелагерными страданиями.
Ему, ввиду его тяжелого состояния, вскоре была предоставлена отдельная комната с санузлом. Номер комнаты на третьем этаже - 244. Навестить его приходили многие. Чаще всего бывала близкая знакомая И.П. Сиротинская - об этом автору лично рассказывал главный врач дома престарелых Ю.Ф. Соловьев. И она вспоминала эти встречи со всеми подробностями: «"Здесь очень хорошо, - говорил он. - Здесь хорошо кормят". Лагерные привычки вернулись к нему. Простыни, пододеяльники он срывал, комкал и прятал под матрас - чтобы не украли. Полотенце завязывал на шее…»
С полным равнодушием Шаламов воспринял ее сообщение летом 1981 года, что ему присуждена премия Свободы, учрежденная французским Пен-клубом.
«Сказать, что он был невменяем - нельзя, - говорила Сиротинская. - Самое страшное, что внутри этого немощного тела был кусочек жизни, поэзии». Шаламов продолжал сочинять стихи. Некоторые из них она запомнила, записала и включила впоследствии в поэтический том его сочинений:
Я на бреющем полете
Землю облетаю,
Всей тщеты земной заботы
Я теперь не знаю…
В 1981 году у писателя случился инсульт, после чего принимается решение отправить его в пансионат для людей, страдающих хроническими психическими заболеваниями. Там он и умирает 17 января 1982 года, причина смерти - крупозное воспаление легких.
Сын священника, Шаламов всегда считал себя неверующим, однако его отпели согласно православному обряду и похоронили на Кунцевском кладбище Москвы.
О кончине Шаламова кратко известила 27 января «Литературная газета». В этот же день английская «Дейли телеграф» писала: «Запад еще плохо знает Шаламова, но в глазах многих он был великим русским писателем». Большинство же узнало о смерти автора «Колымских рассказов» из зарубежных «радиоголосов».
Символики, сопровождавшей смерть писателя, было много. Уход Шаламова как бы подводил итог всей его эпохи. Через неделю, 25 января 1982 года, умер М.А. Суслов - секретарь ЦК КПСС, страж коммунистической ортодоксии, выдвинувшийся при Сталине и на всю жизнь сохранивший закамуфлированную преданность его идеям. Вся послелагерная судьба Шаламова - да и всей страны - во многом определялась жестким идеологическим диктатом этого «серого кардинала» с «совиными крылами», столь явно напоминавшими увековеченные А. Блоком «крыла» К.П. Победоносцева. В ноябре 1982 года умер Л.И. Брежнев, почти «либерал», но тоже со сталинской закваской, все политические решения согласовывавший прежде всего с Сусловым, «многоуважаемым Михаилом Андреевичем».
В СССР при жизни Шаламова немногие его соотечественники могли по достоинству оценить масштаб этой личности. Но когда в 1988 году, в эпоху «гласности», стали широко печататься его произведения и открылась вся его трагическая судьба, самые чуткие отечественные читатели, в том числе из так называемых «простых», никогда не имевших отношения к лагерям, сумели изначально выделить имя Шаламова из десятков других открытых, «возвращенных» имен (сразу отделив его и от имени А. Солженицына). Эмоциональное воздействие издания «Колымских рассказов» в СССР - России можно сравнить с обжигающей молнией, которая пробежала по миллионам сердец. Стало понятно, что он - писатель совершенно особый, которого нужно оценивать не по привычным литературным меркам, а по меркам чего-то высшего, восходящего к незыблемым идеалам человеческой нравственности, к глубинным русским духовным традициям. Стало понятно, что жизнь его, с молодости и до самого конца, была бескорыстной героической жертвой. Жертвой во имя самого важного для русского человека - правды.
*********
Писатель совершенно особый… Уверена, что эти же слова можно адресовать и другой «героической жертве» - жертве сталинских репрессий – Александру Солженицыну, писателю, чье творчество так же значимо, как и творчество Варлама Шаламова.
Он писал о себе: «Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили». Он провел в лагерях восемь лет, получил Нобелевскую премию по литературе, первым из советских писателей заговорил о репрессиях советской власти и правдиво рассказал читателям о ГУЛАГе. В СССР произведения Солженицына запрещали, а сейчас они входят в школьную программу.
Вот такой парадокс.
А еще у него было правило, правило лауреата Нобелевской премии: «ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ».
Литература о Солженицыне огромна (крупнейшие русские писатели, современники Александра Солженицына встретили его приход в литературу очень тепло, кое-кто даже восторженно). Это горы книг, статей, научных трудов, диссертаций, восторженных и полемических откликов. Казалось бы, - какой простор для самых разнообразных взглядов, трактовок, эстетических, философских и политических интерпретаций роли и места писателя в литературной и общественно-политической жизни страны и мира. На самом деле, однако, особого разнообразия тут не наблюдается. Вся эта литература аккуратно делится на две противостоящие друг другу категории. Одна - это апологетика (если речь о творчестве "великого писателя земли русской" - коленопреклонение и восторг, если о его биографии - нимб пророка и гения, не жизнеописание, а - житие). И - другая, противоположная: разоблачения, глумления, памфлеты, а то и пасквили.
Книга Бенедикта Сарнова "Феномен Солженицына" - едва ли не единственная, автор которой поставил перед собой задачу дать серьезный и по возможности объективный анализ как художественной, так и мировоззренческой эволюции (лучше сказать - трансформации) писателя.
Сарнов, Б. М. Феномен Солженицына / Бенедикт Михайлович Сарнов. - Москва : Эксмо, 2012. - 845, [1] с., [8] л. ил., портр. ; 22 см. - (Диалоги о культуре). - ISBN 978-5-699-56790-4.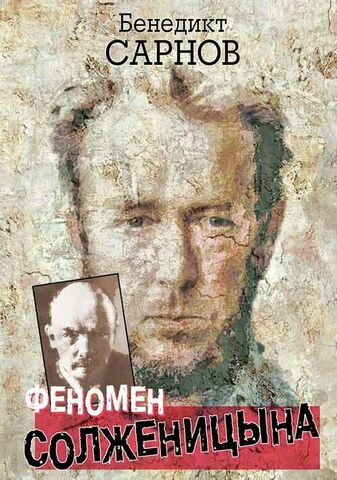
Автор - известный литературовед и публицист (его самый важный труд последних лет - солидный четырехтомник под названием "Сталин и писатели"), конечно же, пристрастен, тем более, что, как написано в аннотации, Солженицын сыграл немалую роль в жизни Б. Сарнова, если не прямо, то косвенно. И все же книга получилась любопытной, в ней приводятся очень много личных воспоминаний (Сарнов знал героя своей книги, хотя тесной дружбы с ним и не водил), фактов, документов, которые структурированы в восемь глав. Перед нами рассуждение Бенедикта Сарнова на тему, причем автор то и дело от этой самой темы отступает, вспоминая различные эпизоды из своей жизни, перемежая их стихотворениями, обширными цитатами, байками и легендами не только про Солженицына, но и про советскую жизнь в целом.
Одна из глав называется «Огонь с неба».
От первого лица. Бенедикт Сарнов: «Никогда не забуду чувства, с которым впервые читал захватанную, обтрепанную по краям, перепечатанную через один интервал (и на обороте тоже) рукопись повести, которая позже увидала свет под названием «Один день Ивана Денисовича». (В том, машинописном варианте она называлась «Щ 854», и было не совсем даже понятно, – заглавие этого произведения, которое мне предстояло прочесть, или шифр, обозначающий имя автора, пожелавшего остаться неизвестным).
Когда рукопись эта появилась в редакции «Нового мира», Твардовский, прежде чем начать трудную и, как тогда казалось, почти наверняка обреченную на неуспех борьбу за неё, дал её прочесть некоторым ближайшим своим друзьям: помимо всего прочего, хотел заручиться их поддержкой. В числе первых её читателей (если не считать сотрудников редакции) был Самуил Яковлевич Маршак.
Рассказывая мне о ней, он, между прочим, сказал: «Я всегда говорил Александру Трифоновичу: надо терпеливо, умело, старательно раскладывать костер. А огонь упадет с неба...»
Солженицын, что теперь ни говори, был тогда для нас именно вот этим самым упавшим с неба огнем.
Конечно, этот огонь упал не в пустыню. Не будь тогда у нас «Нового мира» Твардовского, повесть Солженицына, быть может, ещё не один год пролежала бы в столе у автора. Не случайно именно в «Новый мир» Солженицын рискнул отдать своего «Щ 854». Твардовский хорошо умел раскладывать свой костер.
Версия появления повести в редакции (лучше сказать - легенда) была такая: рукопись будущим её редактором Асей Берзер была извлечена из самотека и передана - в обход редколлегии - прямо в руки Твардовскому.
Рукопись «А. Рязанского» Александр Трифонович прочел в тот же вечер. Читать начал поздно, уже лёжа в постели. Но, прочитав первые страницы, понял (лучше сказать, почувствовал), что читать такую вещь лёжа нельзя. Встал, оделся, сел к столу. Дочитав до конца, вернулся к началу. Стал читать снова: не мог оторваться...
Все это я сейчас пересказываю так, как оно запомнилось мне ТОГДА. Позже всплыли некоторые, тогда неизвестные мне, уточнения и подробности.
Для начала приведу подробный рассказ самого Александра Исаевича: «Это так получилось (только не в тот год мне было рассказано). Долгохранимая и затаённая моя рукопись пролежала на столе у А. Берзер целую неделю неприкрытая, даже не в папке, доступная любому стукачу или похитителю, - Анну Самойловну не предупредили, оставляя, о свойствах этой вещи. Как-то А.С. начала расчищать стол, прочла несколько фраз - видит: и держать так нельзя и читать надо не тут. Взяла домой, прочла вечером. Поразилась. Проверила впечатление у подруги - Калерии Озеровой, редактора критического отдела. Сошлось. Хорошо зная обстановку «Нового мира», А.С. определила, что любой из членов редакционной коллегии, в ладу со своим пониманием благополучия журнала, непременно эту рукопись перехватит, зажмёт, заглотнёт, не даст ей дойти до Твардовского. Значит, надо было исхитриться перебросить рукопись через всех них, перешвырнуть через топь осторожности и трусости, - и в первые руки угодить – Твардовскому...» <… > «Она дождалась случая, правда, в присутствии Кондратовича, наедине не удалось, и сказала Главному, что есть две особых рукописи, требующих непременно его прочтения: «Софья Петровна» Лидии Чуковской и ещё такая: «лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Опять-таки, в шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского! Он сразу сказал – эту давайте. Но опомнился и подскочил Кондратович: «Уж дайте до завтра, сперва я прочту!» Не мог он упустить послужить защитным фильтром для Главного!
Взял Кондратович, и с первых же строк понял, что безымянный (подписана фамилия не была, тем я как бы замедлял враждебный ход событий) тёмный автор лагерного рассказа даже расстановки основных членов предложения толком не знает, да и слова-то пишет какие-то дикие. Пришлось ему карандашом исчеркать первую, вторую, пятую, восьмую страницу, возвращая подлежащие, сказуемые да и атрибуты на свои места. Но рассказ оказался весь до конца неграмотный, и Кондратович с какой-то страницы работу эту бросил. Какое у него к утру сформировалось мнение – неизвестно, а думаю, что легко могло оно повернуться и в ту, и в другую сторону. Твардовский же, мнения его не спрося, взял читать сам.
Узнав потом жизнь редакции, я убедился, что не видать бы Ивану Денисовичу света, если б А. Берзер не пробилась к Твардовскому и не зацепила его замечанием, что это – глазами мужика. Не пустили б моего Денисовича три охранителя Главного – Дементьев, Закс и Кондратович.
Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв. Так и сбылось...»
*****
То, что было время, когда такое явление, как Александр Исаевич Солженицын, воспринималось как «огонь с неба», неудивительно. Да и сам Сарнов отметал бросавшиеся в глаза нелепости в его сочинениях и спорил с теми, кто указывал на отвратительные черты характера нового «классика», потому что самым главным казалось другое: «Ведь при мне, на моих глазах он в одиночку сражался с могущественной ядерной державой. Он прошел войну, лагерь, одолел смертельную болезнь и сумел открыть миру правду о кошмаре сталинского ГУЛАГа. А какой это великий труженик! Даже не найдя в себе силы прочесть все эти его «Узлы», я не мог не изумляться одному только количеству написанных им страниц».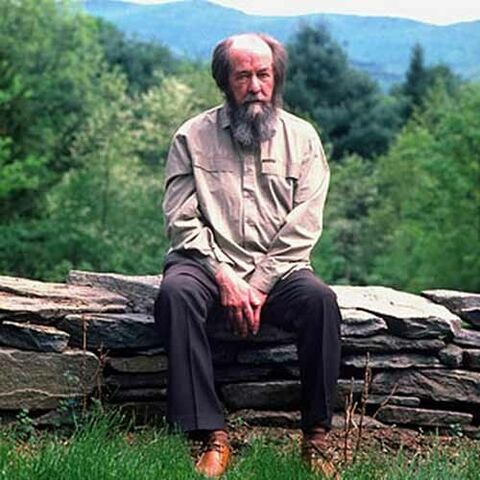
Появление солженицынской повести на страницах «Нового мира» прежде всего было, конечно, огромным общественным событием, по значению своему сравнимым, может быть, только с закрытым докладом Хрущёва на ХХ съезде. «Но меня – меня лично, - говорит автор, – «Иван Денисович» покорил не только этим. В то время я прочел уже довольно много ходивших в самиздате лагерных рукописей. Читал и замечательную книгу Юлия Марголина «Путешествие в страну Зэ-Ка»: вышедшая аж в 1952 году в Нью-Йорке, она каким-то чудом до меня дошла.
Поэтому ли, по другой ли какой причине, но тем, что он поднял новый, никем до него не тронутый пласт жизни, Солженицын меня не поразил. А поразил меня его «Иван Денисович» как событие литературное, художественное.
Хорошо помню тогдашний свой разговор о Солженицыне с моим другом Максом Бременером.
– Ты действительно думаешь, – спросил меня Макс, – что он великий писатель?
– Может быть, и не великий, – ответил я. – Но он весь оттуда, из той, великой русской литературы.
Именно в этом было тут для меня все дело».
<…>
«Да, конечно, и среди современников моих были писатели, принадлежавшие к той, великой русской литературе, продолжавшие её: Зощенко, Платонов, Бабель, Булгаков...
Но это были писатели другой генерации. Все они приняли эстафету – из рук в руки, и не метафорически, а буквально, – от Горького, который обменивался рукопожатиями с Толстым и Чеховым. Преемственная связь между ними и их великими предшественниками не была оборвана.
А тут – неведомо откуда – вдруг явился (упал с неба) – никому не известный, зрелый, вполне сложившийся и безусловно русский (в том смысле, что не советский) писатель.
Повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» – в этом у меня сразу не возникло никаких сомнений – была явлением той, настоящей русской литературы. И это была не стилизация, не подражание, не попытка воскресить, реанимировать её (как, скажем, у Юрия Казакова или Беллы Ахмадулиной). Это было прямое – через голову советской – её продолжение.
Повесть была написана живым народным языком – тем самым, какой я постоянно слышал вокруг, но которого и духу не было в книгах, которые я читал:
...
Один, помоложе, бывший Герой Советского Союза, взлез на столб и протирал термометр.
Снизу советовали:
– Ты только в сторону дыши, а то поднимется.
– Фуимется! – поднимется!.. не влияет.
– Хорошо положили, а? За полдня. Без подъёмника, без фуёмника...
– Шесть их, девушек в купе закрытом ехало, ленинградские студентки с практики. На столике у них маслице да фуяслице...
И ни малейшего следа ещё не было в ней того вымученного, искусственного, мертворожденного «языкового расширения», каким Александр Исаевич стал потчевать нас позже.
****
Лагерь, в котором отбывает свой срок Иван Денисович, – да и вся эта давно сложившаяся и упрочившаяся система сталинских лагерей, – не какой-то там болезненный нарост, не раковая опухоль на здоровом теле страны, а сколок, модель всего советского мироустройства.
На Западе о существовании советских концентрационных лагерей было известно давно. Но тема эта там долго оставалась дискуссионной.
С 24 января по 22 марта 1949 года в Париже слушалось на весь мир прогремевшее «Дело Кравченко», знаменитого советского невозвращенца 40-х годов, издавшего книгу «Я выбрал свободу», в которой правда о сталинских лагерях во весь голос была сказана чуть ли не впервые.
Прокоммунистический еженедельник «Леттр Франсэз» обвинил Кравченко в клевете. Кравченко тотчас же привлёк эту французскую газету к суду. Газета вызвала на процесс около сорока свидетелей, среди которых были люди весьма почтенные: Жолио-Кюри, Хьюлетт Джонсон, Веркор, д'Астье де ля Вижери.
Со стороны Кравченко свидетелями выступили чудом уцелевшие и оказавшиеся на Западе узники сталинских лагерей.
Кто-то из вызванных к даче показаний свидетелей рассказывает о том, какая невыносимая теснота и духота была в тюремной камере, в которой он оказался.
Адвокат задает ему вопрос: каковы были размеры той камеры? Свидетель отвечает, что площадь камеры составляла примерно сорок – сорок пять квадратных метров. «И сколько же в ней помещалось арестантов?», – просит уточнить адвокат. Свидетель отвечает, что человек полтораста. Может быть, даже двести. Адвокат разводит руками: абсурдность этих показаний представляется ему очевидной. И так же реагирует на них зал: недоверчивыми улыбками, смешками. Не может, ну никак не может западный человек вообразить, чтобы в камеру размером в сорок или даже пятьдесят квадратных метров можно было запихнуть полтораста, а тем более двести арестантов. И свидетель сбивчиво пытается им втолковать, что лежали они там все вповалку на полу, так тесно прижавшись друг к другу, что когда кто-нибудь из них пытался повернуться на другой бок, чтобы эта отчаянная его попытка удалась, повернуться должны были все двести. Вообразить себе такое западный человек не в состоянии, и в ответ на это невнятное и явно вздорное объяснение в зале раздается смех...
Первым сокрушительным ударом по неверию западного интеллигента в существование сталинской тюремно-лагерной системы, – а тем самым и по всему мировому коммунистическому движению, – был доклад Хрущёва на ХХ съезде.
Вторым таким ударом, не менее, а может быть, даже и более сокрушительным, стало появление на страницах «Нового мира» повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
Это значение своего «Ивана Денисовича» Александр Исаевич понимал хорошо. Но место, которое он отводил этой маленькой повести в сравнении с другими своими вещами, в то время уже написанными, а тем более с теми, которые он ещё собирался написать, представлялось ему не значительным.
И снова - из первых уст: «Запомнился мне ещё один эпизод, определивший мое – уже тогда – слегка ироническое отношение к Александру Исаевичу.
Позвонил мне незнакомый человек. Представился. Он – художник. Написал портрет Солженицына. Хотел бы подарить его Александру Исаевичу, но не знает, как это сделать. Не могу ли я каким-то образом ему в этом поспособствовать.
Я сказал, что могу.
Художник принес портрет и показал его мне.
На большом листе ватмана – то ли углем, то ли тушью – крупным планом было запечатлено лицо Александра Исаевича. Лоб его – как шрам – пересекала колючая проволока.
Портрет, хотя и лежал на нем некоторый отпечаток эстетики соцреализма, мне, в общем, скорее понравился, и я – через Юру или Веронику – переправил его «Сане».
Ответ пришел скоро.
Адресован он был, разумеется, не мне, а прямо и непосредственно художнику. Но текст этого ответа я помню дословно, поскольку художник, прочитав его, поделился со мной своим недоумением, которое я не мог не разделить.
Александр Исаевич писал, что за портрет благодарит, но с концепцией его решительно не согласен. «По-моему, – объяснял он свое несогласие, – не она – меня, а я – её».
Имелась в виду, разумеется, колючая проволока.
Между тем мужественное, волевое, гораздо более мужественное и волевое, чем в жизни, лицо Солженицына, изображенное художником, не оставляло ни малейших сомнений в том, что именно «он – её, а не она – его».
Такая очевидная слепота нашего кумира, явно порожденная его упоением собой и своей мессианской ролью, довольно сильно обескуражила тогда не только бедного художника, хотевшего «как лучше», но и меня тоже.
Выражение «нашего кумира» я тут употребил, конечно, не без иронии. Но это – самоирония. Ирония, направленная на себя.
Кумиром в полном смысле этого слова он и тогда для меня, конечно, не был. Но несомненным лидером, вождем, безусловно, был».
А потом, подумав, что не дать Эмке поэму Исаича, которого он боготворил, было бы просто подло, сказал:
– Хочешь поэму Солженицына прочесть?
Конечно, он хотел.
Ну, а дальше события развивались стремительно. Прочитав поэму, Эмка, вопреки всем моим ожиданиям, задерживаться у меня не стал, а сразу куда-то заторопился. И, как это всегда бывает с людьми, отмеченными перстом Божьим, выйдя от меня и пройдя буквально несколько шагов, наткнулся на Солженицына.
Надо сказать, что эта – на сей раз не такая мимолетная, как все предыдущие – встреча с ним произвела на меня совершенно оглушительное впечатление. И отнюдь не только потому, что на меня действовал гипноз его имени. Этот человек мог произвести (и наверняка производил) такое впечатление задолго до того, как имя его стало живой легендой.
Он тогда только начал отпускать бороду. Борода была ещё не толстовская, даже не «достоевская», а – короткая, шкиперская. И во всем его облике виделось что-то офицерское, спортивное, – чёткое, ловкое, быстрое. Он был обворожительно любезен, как мне показалось, даже чуть-чуть играл, наслаждаясь своей подчёркнутой куртуазностью. Но за этой безукоризненной любезностью чувствовался холодок хорошо ощутимого расстояние между ним и мною. Дистанция эта сохранялась на протяжении всей нашей встречи и ни на миг не была нарушена.
Начал он с извинения, что вот, мол, вынужден был побеспокоить, оторвать меня от моих занятий. В этом его извинении не ощущалось и тени иронии, но я сразу же подумал, что кто-то (тот же Эмка) наверняка уже доложил ему, от каких таких важных занятий он вынужден был меня оторвать.
Поняв, в чем дело, я сразу же выразил готовность свести его с «добродеями», от которых получил поэму. Оставив Юру и Эмку у Лёвы, мы с ним вдвоём отправились ко мне (моя квартира была в двух шагах от Лёвиной). Дома была только жена. Она лежала в моем кабинете под пледом и что-то читала. Увидав со мною рядом – живьем – легендарного человека, она – от растерянности – даже не встала».
Около шестисот страниц книги наполнены такими воспоминаниями-байками (своего рода, беллетризованные мемуары). А вот остальные 200 – вполне серьезные размышления о травле А. Солженицына. Глава так и называется - «Обыкновенный фашизм».
Когда так называемая наша «перестройка» вошла уже в полную силу, Бенедикт Сарнов позволил себе более или менее откровенно публично высказаться на эту щекотливую тему. Он вел тогда в «Огоньке» постоянную рубрику: «Из запасников русской прозы ХХ века». Публиковал там Зощенко, Бабеля, Замятина, писателей-эмигрантов – Шмелева, Ремизова, впервые в послереволюционной России напечатал отрывки из «Уединенного» и «Опавших листьев» В. Розанова. Естественно, захотелось вернуть читателю и Солженицына.
«Пока ещё тлела, догорая, хрущёвская оттепель, Солженицына скрепя сердце терпели. Вынуждены были терпеть. Но эпоха застоя обрекла автора «Ивана Денисовича» на открытую конфронтацию с властью. Травля Солженицына, начавшаяся вскоре после отставки Хрущёва и завершившаяся выдворением писателя из страны, имела двоякие последствия.
С одной стороны, она привела к тому, что фигура Солженицына разрослась до гигантских размеров, заслонив собою весь горизонт. Его стали сравнивать с Толстым, с Достоевским, с протопопом Аввакумом, с библейскими пророками… Создав ему репутацию чуть ли не самого опасного и влиятельного врага могущественной ядерной державы, эта травля – и сила его противостояния этой травле –обеспечила Солженицыну неслыханную мировую славу.
С другой стороны, эта травля велась такими гнусными средствами, о Солженицыне писали в таком чудовищном тоне, на голову его обрушили столько лжи и клеветы, что это почти совершенно исключало для многих не только возможность какой бы то ни было критики Солженицына, но даже полемики с ним, ведь такая полемика неизбежно рассматривалась бы как соучастие в травле.
Это уродливое, искусственное, ненормальное положение сохраняется до сего дня.
До тех пор, пока книги Солженицына не опубликованы в нашей стране, его деятельность художника, идеолога, публициста, по существу, остаётся у нас вне серьезной критики. А это, естественно, создаёт почву для возникновения культа Солженицына, который ничуть не лучше всякого другого культа.
Публикуя рассказ «Матрёнин двор», мы делаем первый шаг к тому, чтобы покончить с этой ненормальной, уродливой ситуацией. Надеемся, что вслед за этим первым шагом последуют другие».
*****
В 1989 году «Новый мир» объявил о своём намерении опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ». Он анонсировался из номера в номер, но все никак не выходил. Дело в том, что тогдашний идеолог партии Вадим Медведев, занявший кресло Суслова, неосторожно и категорично высказался в том смысле, что … Солженицын в СССР опубликован не будет.
Но ведь Солженицын в СССР печатался, и его некогда публиковавшийся, а после высылки писателя изъятый из литературного оборота «Матрёнин двор», например, очень подходил для «Запасников русской прозы XX века». Советскую цензуру этот рассказу же проходил – как же его можно запретить во времена демократизации? Словом, Сарнов позвонил в Вермонт спросить разрешения Солженицына на публикацию. Сам Александр Исаевич трубку не взял. Тогда пришлось рассказать суть просьбы и оставить свои координаты, с тем, чтобы он или кто-то из его доверенных лиц дал знать, если есть возражения против публикации. Когда прошло какое-то приличное время и возражений не последовало, Сарнов понёс «Матрёнин двор» на подпись Коротичу.
«Ну зачем нам это надо? – плаксивым голосом запричитал Виталий Алексеевич. – Вот Солженицын вернётся в Россию на белом коне, и мы же с вами на конюшне должны будем ему сапога чистить». Фразе я, конечно, несказанно удивился, но не сдавался. «Ну, хорошо», –недовольно кивнул Коротич и оставил рассказ у себя. А через некоторое время он сказал, что Солженицына сняла цензура. До сих пор не знаю, так ли это – может быть, цензор был внутренний?
Тем не менее условия игры предполагали, что «Матрёнин двор» следует считать снятым цензурой. И тут совершенно неожиданно выходит постановление ЦК, подписанное Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, суть которого, если коротко, сводилась к тому, что можно републиковать всё в разное время печатавшееся в СССР…
Одним словом, «Матрёнин двор» вышел в «Огоньке», а следом и «Архипелаг ГУЛАГ» в «Новом мире». С имени Солженицына был снят запрет…
Что будет дальше – об этом узнаете из книги Бенедикта Сарнова «Феномен Солженицына»
********
И покатился каток репрессий по литераторам, были арестованы Михаил Решетников, Лев Лубнин, Леонид Дьяконов, Ольга Берггольц, Константин Алтайский (Королев), Петр Васильев, Николай Заболоцкий и др. …Яков Акмин был изобличен в том, что является «шпионом одной из иностранных разведок, в пользу которой до последнего времени вел разведывательную работу»……………………………..
Всем, кто клеймён был статьёю полсотни восьмою,
Кто и во сне окружён был собаками, лютым конвоем,
Кто по суду, без суда, совещаньем особым
Был облечён на тюремную робу до гроба,
Им наши слёзы и скорбь, наша вечная память!
Т. Руслов
Ирина Борисовна Бомейко,
главный библиограф справочно-библиографического отдела.

