Обзор книг из серии «Библиотека факультета политологии МГУ»
Вы можете не заниматься политикой,
все равно политика занимается вами.
Шарль де Монталамбер,
французский писатель, оратор и политический деятель
* * *
«Москва… Как много в этом звуке / Для сердца русского слилось…» Да, столица нашей Родины всегда являлась центром притяжения для всех, кто ставил перед собой амбициозные задачи и желал добиться успеха в научной или любой другой сфере. Для абитуриентов из любого уголка страны великим достижением было и есть поступление в Московский университет – лучшее учебное заведение России, старейший и крупнейший вуз, один из центров мировой науки.
В основанном по замыслу и плану М.В. Ломоносова указом императрицы Елизаветы Петровны 12(23) января 1755 года на основании «доношения в Сенат» графа И.И. Шувалова университете через год после открытия появилось свое издательство. С 1756 года здесь было опубликовано более 50 тысяч научных и художественных, переводных и оригинальных сочинений. В XVIII веке вышли в свет труды Дидро, Руссо, Вольтера, Монтеня и др. В XIX веке университетское книгоиздательство способствовало научным исканиям и популяризировало работу многих выдающихся русских ученых.
В XX веке ни одно издательство не могло сравниться с Издательством МГУ по объему издания русской классики и общедоступных учебников. Ежегодно авторами издательства (книги и журналы) становятся более 2500 человек.
И вчера, и сегодня авторский коллектив издательства составляют ведущие профессора, преподаватели, научные сотрудники МГУ. Издательство выпускает книги практически по всем областям современного научного знания – учебную и научную литературу для студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов, а также научно-популярную, научно-художественную и справочную литературу для широкого круга читателей. В рамках программы "МГУ – школе" начали выходить издания для старшеклассников и поступающих в вузы: учебные пособия, тренировочные тесты, справочники. Школьникам, абитуриентам и преподавателям адресованы серии книг "Перечитывая классику" и "Школа вдумчивого чтения".
Плавно переходя к теме нашего обзора, скажем, что традиция преподавания политических наук в МГУ существует с момента основания университета: среди первых десяти кафедр, созданных в 1755 году по предложению М.В. Ломоносова, была кафедра политики. В первой половине XIX века (1804–1835 гг.) в составе Московского университета работал факультет нравственных и политических наук, где велась подготовка студентов по отдельным специализациям: политике, дипломатике, политической экономии и др.
Не углубляясь в историю, скажем лишь, что современная политология в МГУ преподается с 1989 г. – со времени введения дисциплины в реестр специальностей вузов страны. Около двух десятилетий подготовку политологов осуществляло отделение политологии философского факультета МГУ
На базе политологических кафедр философского факультета, принявших решение выделиться в новое подразделение Московского университета, и был образован факультет политологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Решение о создании факультета было принято Ученым советом Московского университета 29 августа 2008 года. Приказ о создании факультета политологии был подписан ректором МГУ, академиком В. А. Садовничим 10 сентября 2008 года. 23 марта 2009 года был подписан приказ об образовательных программах факультета политологии.
В задачу нового структурного подразделения МГУ входит фундаментальная подготовка специалистов на основе классических университетских традиций, с учетом современного международного опыта и результатов новейших исследований политических практик.
Сами понимаете, что без опоры на фундаментальные исследования, монографии невозможно стать высококлассным специалистом в любой области знаний. Из чего следует, что для студентов различных факультетов, а их в вузе больше сорока, издаются самые различные академические труды и учебники, книги, в том числе объединенные в различные серии. Одна из них та, что представляем сейчас вашему вниманию.
Серия «Библиотека факультета политологии МГУ» издается с 2010 года по инициативе председателя редколлегии, декана факультета политологи профессора Шутова Андрея Юрьевича. За 12 лет вышло более 60 книг. Авторами являются более 100 человек, среди которых представители ведущих научно-образовательных центров России и сотрудники зарубежных университетов.
Мы все живем в обществе, и, значит, так или иначе связаны с политикой. И незнание основ политологии может иметь неприятные последствия в повседневной жизни. А обстоятельства в мировой политике складываются так, что политико-психологическое исследование профессора Н.М. Ракитянского, политического психолога, «Ментальные исследования глобальных политических миров», увидевшее свет в 2020 году, должно быть весьма востребованным: в нем содержится ответ на главный вопрос современности – почему с XIX века не удается ни один глобальный политической проект, рассчитанный на тысячелетия?
Ракитянский, Н. М. Ментальные исследования глобальных политических миров : монография / Николай Митрофанович Ракитянский ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет политологии. - Москва : Изд-во МГУ, 2020. - 461, [2] с. ; 22. - (Библиотека Факультета политологии МГУ). - Библиогр.: с. 419-462 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-19-011549-9.
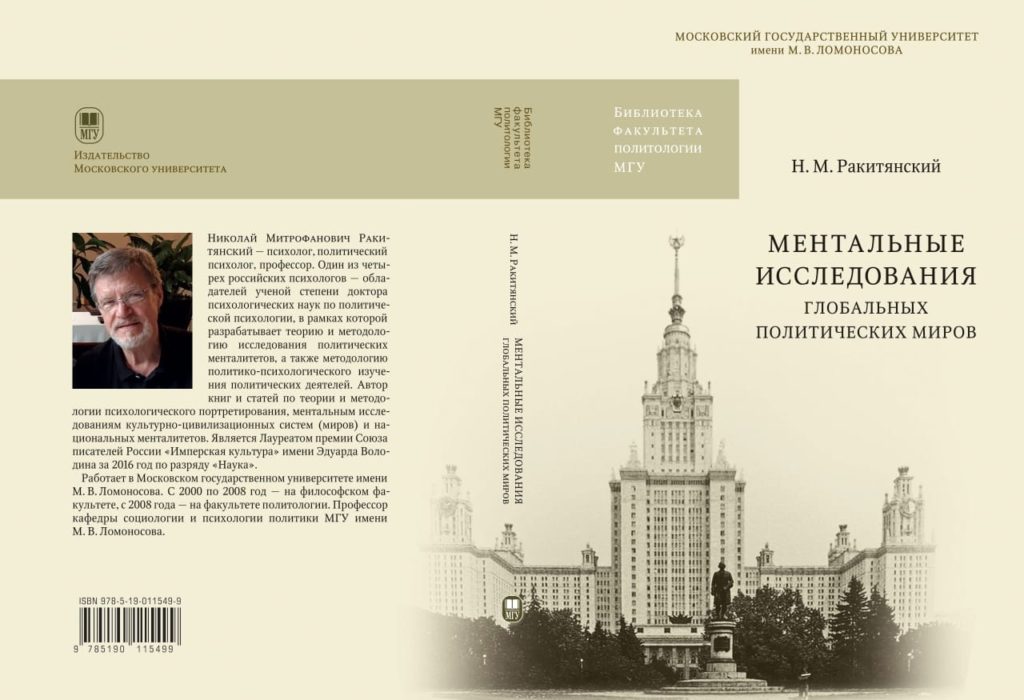
Значение этого вопроса очень велико, потому что даже суперсовременные проекты, в которые вложена вся мощь современной науки: «Глобализация», «Общество потребления», «Третья промышленная революция», «Демократизация» и др. - были остановлены буквально в считанные дни, отправлены во временное «окно», созданное ковидной пандемией.
«В действительности, - как утверждает автор вступительной статьи, доктор психологических наук, директор Института политической психологии профессор А.И. Юрьев, - пандемия и почти одномоментное закрытие границ государств, регионов, остановка производств, принудительный разрыв экономических и социальных контактов были необходимы, как необходимо торможение перед опасностью, скрытой впереди во тьме». Нет необходимости перечислят эти опасности: они известны экологам, демографам, экономистам и другим ученым. Поэтому давно требовалась срочная приостановка всех процессов жизнеобеспечения в масштабах планеты для анализа современного мироустройства: в его проекте таится ошибка. Фактическое закрытие границ для перемещения людей, товаров – не что иное, как вынужденный демонтаж глобализации.
На улицах городов вышла критическая масса людей, которые отказываются от своего прошлого: поджигают храмы, уничтожают книги, переименовывают улицы… Демонстраторы дают понять, что это не их мир, не их государства, не их жизнь, что в проекте этого мироустройства допущена ошибка, которую нужно срочно устранить. Отрицание собственной истории, массовые попытки просить прощения у тех, кто объявляет себя жертвой нашей цивилизации – это демонтаж той политической системы, ради которой был разрушен «Проект СССР».
Книга так или иначе касается этой ошибки. Она не утверждает, а допускает мысль о том, что эта ошибка одинаково опасна для представителей всех враждующих политических сил, а главное - для народов планеты.
Важна мысль о том, что глобальные противостояния в современном мире все чаще трактуются как столкновение менталитетов. Потребность, причем форсируемая, в анализе этого феномена и особенно специфики различных национальных и наднациональных менталитетов у специалистов по социальным наукам самого различного профиля сомнений не вызывает.
Исследование погружает в истоки формирования и противостояния менталитетов, а также содержит наблюдения за ламинарными (ламинарное течение - течение, при котором жидкость или газ перемещаются слоями без перемешивания и пульсаций (то есть без беспорядочных быстрых изменений скорости)) и турбулентными их проявлениями. Ей присущи проницательные суждения и релевантные прогнозы о глобальной деструктивности столкновений носителей несходных менталитетов. В целом она базируется на академически выверенных предпосылках и доказательных выводах, касающихся самого статуса понятия, а точнее сказать - интегрального концепта «менталитет».
Положения монографии апробированы в ходе многочисленных авторских эмпирических исследований, опираются на анализ массивов научной литературы на разных языках, они звучали в выступлениях на научных форумах и, наконец, в лекционных курсах, в первую очередь для студентов-политологов, на которых присутствовали и представители других факультетов МГУ, причем не только гуманитарных.
Достоинства монографии безусловны, но это не значит, что они принимаются безоговорочно. Более того, они как раз побуждают к острейшим дискуссиям - такова особенность заявленной темы.
Так, отечественные и зарубежные исследователи акцентируют внимание на том, что «феномен менталитета выражается в национальном языке, проявляется в идентичности, соединенности устойчивых когнитивных способностей и веры, образе мышления, установках сознания, специфике восприятия, стереотипах, особом способе мироощущения и мировосприятия».
Это еще и самобытный психический склад, и темперамент, идеалы, мифы, традиции, обычаи, ментальные репрезентации культуры, национальные особенности народа, своеобразие мотивационной сферы. Посредством операционализации (процесс превращения теории или концепции в практический инструмент) этих и других конструктов изучается феномен менталитета, а также проводятся сравнительные ментальные исследования.
При относительно непродолжительной истории ментальных (общая душевная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков мышления, создающих картину мира) исследований глобальных политических миров исследователи открыли для себя, например, что, во-первых, объединение людей в политические партии, союзы и сообщества происходит на основе идентичности, которая является одной из базовых ментальных конструкций. Во-вторых, ментально-догматическими причинами определяются типы политической экспансии, виды, способы и принципы отстаивания интересов в политике. В-третьих, образование государств, интеграция их в политические блоки, союзы, экономические сообщества и военные союзы осуществляются на устойчивых ментально- догматических основаниях, модификация или разрушение которых ведет к фрустрированию (фрустация - психическое состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении потребности, желания) идентичности субъектов политики.
Центральная тема рассматриваемого труда - этно-культурно-религиозные материки менталитетов и их соприкосновения. В их числе - иудейский, британский, исламский, китайский, польский менталитеты. Неизбежен и естественен анализ русского менталитета и российской полиментальности, хотя он дается через их сопоставление с «другим» и «другими». При этом автор монографии особо подчеркивает: «Менталитет, вырастая из веры, проявляется в разуме, чувстве, мотивационно-волевых качествах, бессознательных установках каждого отдельного члена общества на основе общности языка, традиций, истории, культуры и ценностей».
Соответственно, политический менталитет - выражение и условие существования самой политейи по Аристотелю (сообщество граждан в городе) как любой единичной формы общественного управления, от малой (семейный клан) до сколь угодно большой (союз государств). Это попытка уяснения сути понятия. Ее можно и проигнорировать, вернувшись к выделенным автором базовым структурным элементам политического менталитета. Таковыми являются «преобладающие в той или иной общности установки мышления, веры, воли, подсознательного и сверхсознательного, которые определяют характерные типы повседневного, социального, правового, экономического и политического поведения, свойственные как религиозным, так и секулярным группам».
При этом, по аргументации автора, как раз вера задает матрицу духовной жизни, культурные и поведенческие коды этносов, наций и даже наднациональных образований, образуя культурное разнообразие. Чисто религиозным содержанием вера не исчерпывается, считает автор, тем более в качестве сущностного элемента политического менталитета. Вера эта свойственна религиозным и секулярным группам («группы определяются доминирующим в них исторически утвердившимся вероисповеданием»), детерминируя доминирующие установки мышления и воли, проявления бессознательного и сверхсознательного. Они же, в свою очередь, формируют характерные для того или иного менталитета типы социального, правового, экономического, политического и повседневного поведения, типы, зачастую мгновенно узнаваемые.
Во второй части монографии автор делает, на наш взгляд, весьма важный вывод о том, что догматический принцип, кроме своего непосредственного значения, имеет более широкий, собственно методологический смысл: он предполагает изучение закономерностей и механизмов догматического мышления.
Предваряя конкретное рассмотрение политически мощных менталитетов, правомерно вспомнить рекомендацию Б. Спинозы: не плакать, не смеяться, а понимать. То, что можно назвать старым русским словом «удобопревратность», иллюстрируется на примере первых монотеистов - евреев. Они, опираясь на свои догматы, получили возможность обретения уникальных субъектных политических качеств, которые в историческом плане обусловили кардинальное преобразование народа Израилева в суперсубъект ментальной, финансовой, информационной и политической экспансии в глобальном масштабе. Удобопревратны и все другие догматы, и скрупулезное выявление их трансформаций - несомненное достоинство авторского анализа и изложения.
Остается заверить потенциального читателя в оригинальной интерпретации концепта «догмат» на материале комплексных исследований и с апелляциями к истории. Эрудиция богатейшая, но выводы четкие и нацелены на саму суть проблемы. К примеру, такой: «Политика государств, союзов и блоков определяется их стратегическими установками, которые детерминированы догматическими основаниями субъектности, сформированными в течение столетий под воздействием монотеистических религиозных систем. Современная политика, как и прежде, осуществляется в контексте как тысячелетней религиозно-догматической, так и современной секулярно-догматической практики и является ее следствием и результатом. В политико-психологических исследованиях глобальных политических миров методологический потенциал и эвристический ресурс концепта догмы / догмата позволяет осуществлять исследования глубинных основ как национальных менталитетов, так и менталитетов культурно-цивилизационных систем».
Как раз анализ системы догматов позволяет выявить и глубинную суть, и формы проявления одного политического менталитета наряду с другими, детерминируя их существование в реальной (конфликтной) и идеальной (общежительской) формах. На этих методологических основах автор выстраивает и их политико-психологическое моделирование. Задача эта непростая и решается автором через анализ разного рода дихотомий, и в первую очередь политеизма и монотеизма.
В третьей части рассмотрены иудейский, британский, исламский, китайский менталитеты с присущими им основаниями. Мы за неимением возможности объять необъятное штрихами коснемся второго - с учетом мощной, догматически детерминированной субъектности британского политического менталитета и бессубъектности китайского менталитета, основанного на национально-исторической традиции. Одной из основ именно их выделения может быть общая трактовка судеб этих двух стран как «мастерской мира» - в прошлом и в настоящем.
Автор анализирует глубины политического сознания островного государства, задающего сегодня тон если не в управлении миром, то в создании провокаций с целью создания турбулентностей, проще говоря, мутя воду для ловли рыбы. Крайне важна при этом глава об отношениях Британии с Россией под одноименным названием (подглавка 3.4.2.3) - ее интересно прочесть каждому читателю, хоть немного знакомому с основами геополитики, включая столетние противостояния морских и континентальных держав. Например: «Политические, военные и иные коллизии Британии с Россией начались с появлением на карте мира Российской империи, которая была провозглашена в конце 1721 года по итогам Северной войны. Этот момент стал точкой отсчета активного противодействия Британии российским геополитическим устремлениям – ее усилия были направлены на всемерное ослабление России. Англичане, для которых весь мир – открытая книга, с их имперским волюнтаризмом и утонченным деспотизмом, по словам А. Вандама, тиранически господствуя на море, считали, что главным противником на пути к мировому господству являются русские…,<… > с Англией нельзя вести дружбу, иначе как держа руку за пазухой» и что плохо «иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его другом». Одними из первых эту особенность характера англичан заметили, усвоили еще ирландцы, отразившие ее в поговорке «Никогда не доверяй трем вещам: клыкам собаки, заду лошади и улыбке англичанина».
В итоге - обоснованно: «Национальная эффективность политико-стратегического влияния Британии является свидетельством того, с каким упорством, гибкой последовательностью и адаптивностью, прагматической этикой и жестокостью действует английское правительство, независимо от смены стоящих во главе его лиц. Соединенное Королевство имеет длительный и уникальный опыт рефлексивного контроля партнеров и оппонентов, умеет с выгодой для себя программировать политическое поведение различных политических субъектов. Единственный в своем роде многовековой политический режим... Британии был создан и поддерживается исключительными качествами... политических элит».
Для «глобальной Британии» был и остается одной из главных целей Китай; и не трудно догадаться, что Гонконг как ее бывший форпост предназначен не только для демонстрации допустимости максимы «одна страна - две системы» и даже не столько для удержания высокого уровня международных финансовых связей, но и как пункт импорта все тех же вышеупомянутых ценностей. В их числе «демократия», «рынок», «частная собственность», «индивидуализм», «толерантность», «права меньшинств», «мультикультурализм», которые «догматически и непререкаемо утверждаются... всегда полагаются непреложно позитивными и сверхценными». Но вот китайцы видят и оценивают эти ценности по-своему, и Н.М. Ракитянский объясняет, почему.
В части четвертой еще есть возможность детально изучить польский менталитет. Здесь рассматриваются и историческая динамика политической ментализации польских элит, и базовые референции шляхетского менталитета, и сарматизм как ментальная основа шляхетской республики Речи Посполитой.
В заключение хочется добавить, что исследование профессора Н.М. Ракитянского является новым словом в политической науке. Во-первых, богатейшая эрудиция автора в области исторического знания и панорамное рассмотрение столкновения менталитетов в нашей сверхсложной современности позволяет видеть их с достаточной рельефностью - чтобы четче понимать возможности их научного изучения и пути их разрешения на взаимно приемлемых условиях. И во-вторых, книга наполнена гуманистическим содержанием: основательные авторские представления о природе человека и наций - носителей специфических менталитетов, прогностические суждения о будущем всего человечества допускают возможность не только сосуществования этих менталитетов, но и их мирного сожительства. По крайней мере, в этом убеждают академически выверенные положения книги, доказывающие неуместность убеждений о неразрешимости этих конфликтов в ходе «взросления» человечества. Хотя… «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут», - говорил Р. Киплинг. Но должны же они как-то договориться… учитывая, что в современном мире политические трансформации происходят невероятно быстро. Новые политические процессы на всех континентах разворачиваются во всех сферах, на разных уровнях, имеют разную скорость и разную направленность. И, как считает автор монографии доцент кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, «Цивилизационные основания политических проектов», вышедшей в издательстве МГУ в 2020 году, Горбачев Михаил Валерьевич, такая напряженная динамика общественных процессов, дополняемая технологическими новациями, обостряет конкуренцию в мировой иерархии.
Горбачев, М. В. Цивилизационные основания политических проектов : монография / Михаил Валерьевич Горбачев ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет политологии. - Москва : Изд-во МГУ, 2020. - 492, [1] с. : ил., табл. ; 23. - (Библиотека факультета политологии МГУ). - Библиогр.: с. 436-484 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-19-011506-2.
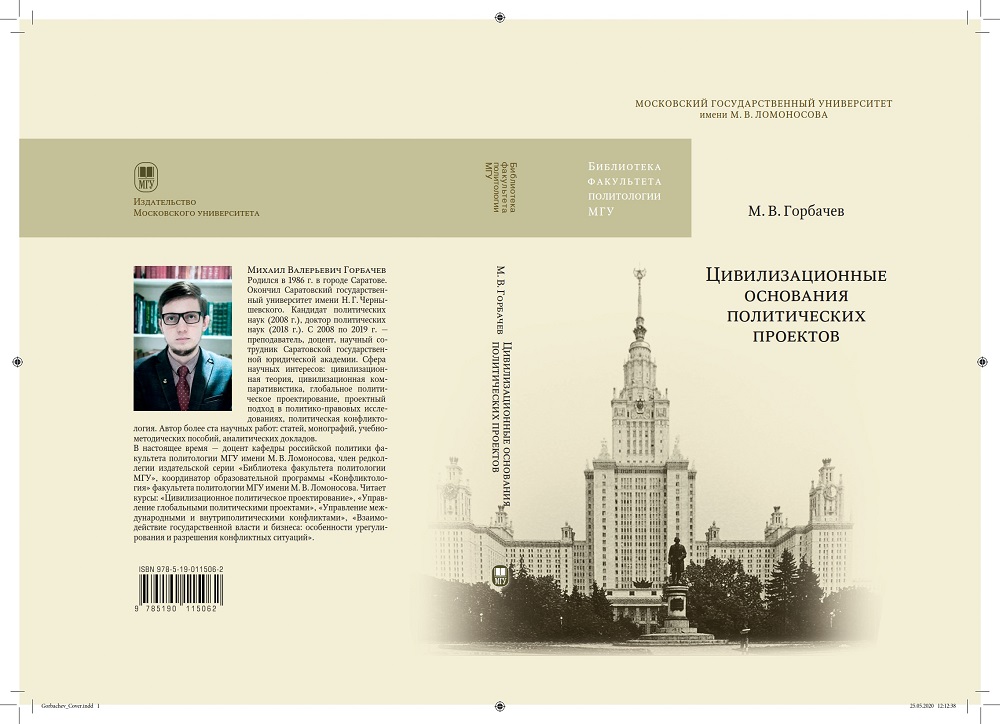
Для понимания процессов, разворачивающихся в современном обществе, формирования более объективной научной картины мира современной политики необходим анализ социально-политических процессов в различных аспектах, на различных уровнях - от поведенческого микроподхода до макроанализа цивилизационного масштаба. Каждый уровень анализа политики дает возможности ответить на множество оформленных политической жизнью вопросов, настоятельно требующих ответа.
Процессы, протекающие в современной политике, убеждают нас в том, что действия субъектов политики, государств и их объединений нацелены на достижение вполне определенных результатов и тщательно спроектированы. Цивилизационный анализ функционален с точки зрения выявления специфики, закономерностей, причин и последствий социально-политических трансформаций, протекающих на уровне глобальной архитектуры и миропорядка, глобального управления, лидерства и мирового господства.
Цивилизационные политические проекты связаны, как утверждает автор, с получением и удержанием политической власти, с ее применением на макроуровне, что накладывает на них дополнительные «ценностные обязательства» перед несколькими обществами и государствами.
Указанный аспект дополняется тем, что различные субъекты могут генерировать конкурирующие между собой цивилизационные политические проекты, а это порождает эффект «ценностной мозаики» или «ценностного калейдоскопа». В результате политика перемещается в сферу конкуренции цивилизационных политических проектов, борющихся за управление обществом, где ставкой является контроль над его производством, и - что особенно важно подчеркнуть - власть над его будущим.
Изучение цивилизационных оснований региональных и глобальных политических проектов позволит по-новому исследовать ряд ключевых вопросов современной глобальной политики. При этом представляется возможным изменить не только ракурсы их рассмотрения, но и методологические координаты их анализа, предложить новые механизмы их концептуального решения. К такому кругу вопросов могут быть отнесены следующие проблемные области:
1) на каком этапе политического проектирования можно утверждать, что политический проект «вырос» в цивилизационный?
2) в чем состоят особенности цивилизационных политических проектов? Почему они, в отличие от других политических проектов, способны значительно изменить контуры настоящего и будущего глобальной политики?
Создание цивилизационного политического проекта требует встраивания в его структуру глубоких ценностей, смыслов, символов, относящихся к определенной макрокультуре и характеризующих ее. При этом субъекты проектирования сталкиваются с необходимостью выбора ценностей, которые будут положены в основу цивилизационного политического проекта: традиционные или универсальные? Проблему выбора между традиционными и универсальными ценностями обусловливают многочисленные варианты их комбинаций.
3) каким образом происходит взаимодействие государств и цивилизаций в процессе конструирования цивилизационных политических проектов?
Формирование нового мирового порядка, основанного на глобализации ряда сфер общественной жизни, придает особую актуальность статусу цивилизаций и государств как субъектов цивилизационного политического проектирования. По мнению автора, вопросы, которые ставились ранее в контексте государство - цивилизации, в настоящее время неактуальны. Более актуальным является следующий вопрос: кто выступает субъектом цивилизационного политического проектирования - «стержневое» государство» или «творческое меньшинство»? При такой постановке вопроса возникает ряд проблем, которые требуют теоретического осмысления, а именно - как определить «стержневое государство»?
Может ли их быть несколько в рамках одного цивилизационного политического проекта? Каковы механизмы взаимодействия «стержневых государств» с «нестержневыми» в структуре цивилизационного политического проекта? Каким образом «стержневые государства» включают «культурные коды» цивилизаций в базис цивилизационных политических проектов? И т д. и т. п.
Названные проблемы требуют детального изучения. В частности, посредством конструирования научной модели объяснения сущностных оснований цивилизационных политических проектов и цивилизационного политического проектирования.
Фундаментальное исследование включает в себя пять крупных разделов.
Первый освещает вопросы концептуальных основ политических проектов и проектирования в политике, где затрагиваются аспекты осмысления понятия политического проекта, особенности и типологизации политического проектирования.
Политический проект, несмотря на множество трактовок, имеет базовые идентификационные характеристики. К ним относятся: ценности и идеи проекта, которые обладают определенной значимостью для отдельных социальных групп или общества в целом; цели субъектов проектирования, которые оформляются в виде конкретных терминов и категорий; наличие необходимых ресурсов для изменения настоящего и приближения к заданным параметрам будущего; вариативность достижения поставленных целей и задач, ограниченная определенными рамками.
По мысли Михаила Горбачева, «политическое проектирование может осуществляться на всех уровнях мира политики. Однако особое значение имеют политические проекты макроуровня. Они обладают надгосударственной и надобщественной идентификационной системой ценностей. Это позволяет им определять контуры политического настоящего и будущего для целых макрорегионов современного мира, а в отдельных случаях - для всего человечества в целом». К таким проектам относятся глобальные политические проекты, цивилизационные политические проекты, трансконтинентальные проекты.
Выявление и интерпретация многочисленных цивилизационных проектов, а также их анализ в контексте происходящих в меняющемся мире политических процессов и явлений становятся полем для научных и научно-практических дискуссий. Это утверждение является лейтмотивом раздела «Цивилизационные политические проекты: от идеи к реальности», где речь идет о видах и функциональности цивилизационных политических проектов. Ряд ученых называют цивилизацию завершающим этапом эволюции «локальных культур». Так утверждается идея о естественном сокращении числа субъектов цивилизационного проектирования. Одновременно акцент смещается в пользу проектных возможностей глобальных культур.
Другая группа исследователей отстаивает гипотезу о росте потенциала цивилизационной проектности «локальных культур» в условиях интенсификации процессов глобализации. Указанные специалисты придерживаются точки зрения, согласно которой происходит не упадок «локальных цивилизаций» и связанных с ними цивилизационных проектов, а изменения в их «пограничных территориях».
Разработка цивилизационного проекта затрудняется отсутствием, во-первых, общепринятого содержания категории «цивилизация», во-вторых, четкого определения концепта «цивилизационный проект». Авторы различных подходов к этому понятию опираются на диаметрально противоположные принципы и основания. В-третьих, сложности обусловлены тем, что сами цивилизационные проекты, затрагивающие политические основы жизнедеятельности обществ и государств, не всегда открыто обозначаются в политических дискурсах различных властных субъектов. Действия авторов и исполнителей таких масштабных изменений становятся понятными экспертному сообществу только через определенный период времени, который может растянуться на несколько политических циклов. Поэтому необходимо выработать методологию анализа цивилизационного проекта, соответствующую сложности его содержания.
Для этого автор выявляет и определяет сущностные характеристики цивилизационных проектов. Ключевыми категориями, формирующими «методологический каркас» понимания этого феномена, выступают понятия «политический проект» и «цивилизация». Их контент могут составлять четкие характеристики, обусловленные ценностными основаниями, которыми руководствуются субъекты политического проектирования.
В раздел «4. Региональные цивилизационные политические проекты» вошли: Проект Большой Европы: возможности и ограничения (4.1.); Магриб и Машрик как регионы цивилизационного политического проектирования (4.2), а также Цивилизационные политические проекты в Северной и Южной Америке (4.3).
Возьмем Европу, например. Начало 1990-х и первая половина 2000-х гг. ознаменовались активным расширением стран - участников ЕС. За два десятилетия количество государств, входящих в ЕС, выросло до 28 (лето 2013 г.). Некоторые ученые полагают, что «эти события породили идею Большой Европы - интеграционного объединения, основанного на общих ценностях и политико-правовых нормах, презумпции единства европейской цивилизации, включающего в себя все страны континента и призванного воплотить это единство в политических институтах».
Расширение цивилизационного пространства ЕС сопровождалось его качественными изменениями. Так, важным шагом в направлении формирования Европейского цивилизационного проекта (ЕС) стало подписание Шенгенского соглашения. Оно означало полное снятие таможенных и других барьеров при перемещении людей через внутренние границы Сообщества. Данная мера упрощала межцивилизационный диалог, способствовала дальнейшей эволюции ЕС как цивилизационного проекта.
Дальше – больше. Сегодня ЕС - единственный цивилизационный проект в Европе, который предлагает уже сформированный набор ценностно-мировоззренческих установок. В него входят «универсализм, общественный домен и экономика соучастия, мягкая сила, секулярность (мышление, свободное от какого-либо религиозного влияния), приоритет качества жизни над максимизацией материального достатка, социальный рынок, концепция устойчивого развития, многокультурье, опора на социальную составляющую прав человека». Эти ценности носят довольно общий характер. Не все страны, входящие в ЕС, разделяют их, многие императивы воспринимаются этими странами как условность. Автором проводится мысль, согласно которой «страны Евросоюза имеют, в общем, - существование символов, ритуалов, представительств в региональных институтах и политические мифы». Таким образом, ЕС может позиционироваться как цивилизационный политический проект, основанный на «единстве в многообразии».
Возможен ли внутри ЕС конфликт цивилизационных ценностных систем, или развитие проекта будет опираться на «симфонию» культурных императивов разных национальных государств, входящих в объединение? На этот и другие вопросы читатель найдет ответы, открыв монографию Михаил Горбачева.
Не обошел исследователь вниманием и тему цивилизационных политических проектов глобального уровня (раздел 5). Этот поистине огромный пласт «геолокации» вместит в себя и Юго-Восточную Азию с вопросами регионального и трансконтинентального цивилизационного политического проектирования…, и Азиатско-Тихоокеанский регион.
А Исламский проект? Формирование масштабных цивилизационных политических проектов в «исламском мире» началось после Второй мировой войны. В этот период интеграционные процессы, под воздействием как идеологических, так и цивилизационных вызовов значительно интенсифицировались. Особенно заметно это стало в Европе, которая, несмотря на определенный идеологический раскол на два военно-политических блока, возглавляемых СССР и США, провозгласила и начала последовательно реализовывать идею общеевропейского дома.
Данный политический проект постепенно стал претендовать на статус цивилизационного, под него стали подводить социокультурные основания. Одновременно интеграционные цивилизационные политические проекты конституировались и в других регионах мира. В частности, «в североамериканском регионе стала создаваться зона свободной торговли (НАФТА), в Латинской Америке (МЕРКОСУР и АЛБА), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТЭС)… множество региональных политических союзов, например, тот же ЕС, ОБСЕ, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Лига арабских государств (ЛАГ), Организация «Исламская конференция» (ОИК)(ОИС), Организация американских государств.
Исследователи считают, что появление такого большого количества интеграционных объединений политического и экономического профилей отражает прежде всего социокультурную динамику эпохи. В частности, некоторые ученые отмечают, что «процессы региональной интеграции связаны с необходимостью защиты государствами данного региона своих политических интересов, ценностей и культуры, которым угрожает политическое давление более сильных государств и их массовой культуры».
Иными словами, создаваясь не как политические проекты социокультурной направленности, они фактически являются таковыми. Автор говорит о том, что «религиозно-цивилизационная специфика обозначена в самом названии организации. Сегодня ОИС является единственным в мире межгосударственным объединением, созданным по религиозному признаку, своего рода мини-ООН для исламского мира».
И еще. Интересна роль России (ранее СССР) в формировании и эволюции Организации «Исламская конференция» ОИК (ОИС) как цивилизационного политического проекта. Россия, в отличие от Турции и Казахстана, всегда стремилась стать связующим звеном между Западом и Востоком: «...превращение России в связующее звено между Исламским миром и миром Христианства…эффективность осуществления такой роли обусловлена тем, что в нашей стране накоплен многовековой опыт мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества представителей названных миров».
Таким образом, в противовес идее моста «Восток-Запад» (ОИС-Европа) Россия предлагает концепцию диалога религий. Россия выступала инициатором создания российско-арабских деловых советов с целью интенсификации прямых контактов как с отдельными мусульманскими странами, так и с цивилизационным политическим проектом ОИК (ОИС). Думается, что первоначально установление партнерских отношений России с Организацией исламского сотрудничества было обусловлено прежде всего стремлением уменьшить влияние радикального ислама на политическую жизнь «евразийского пространства».
Улучшение отношений России с рядом ключевых государств ОИК (ОИС) начиная с 2000-х гг. способствовало обсуждению вопроса, связанного с изменением модели участия России в данном цивилизационном политическом проекте. На саммите ОИК в Куала-Лумпуре
(2003) президент России В.В. Путин отметил: «...подавляющее большинство стран - членов Организации поддержало нашу инициативу о развитии отношений с ОИК. И мы видим в этом не просто жест, а дальновидное и стратегически ориентированное решение… участие России не только дополнит яркую палитру Организации, привнесет вес и голос крупной российской мусульманской общественности».
Лидером российского государства утверждалась точка зрения, согласно которой российские мусульмане являются составной частью «исламского мира» в целом. Россия в данном контексте, по мнению В.В. Путина, может считаться одним из элементов ОИК (ОИС) как цивилизационного политического проекта. «На протяжении многих веков Россия как евроазиатская страна переплетена с исламским миром традиционными, естественными связями... мы были основными союзниками большого количества мусульманских и арабских стран». Акцентируя внимание на интересах мусульман России как части российской цивилизации, В.В. Путин вновь возвращался к идее «диалога цивилизаций». Так было и так будет. И, конечно, диалог цивилизаций как ключевой процесс сосуществования миров, немыслим без… информатизации. А учитывая, что технологический облик современной жизни трансформируется очень быстро, и за последние 30 лет произошли и компьютерная, и посткомпьютерная революции, они повлияли на общественное сознание и поведение, на всю систему социальных коммуникаций. Так рассуждают авторы монографии «Политическая коммуникация в изменяющемся мире: теория и практика», 2022 года издания, Бронников Иван Алексеевич и Горбачев Михаил Валерьевич .
Бронников, И. А. Политическая коммуникация в изменяющемся мире : теория и практика : монография / Иван Алексеевич Бронников, Михаил Валерьевич Горбачев ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет политологии. - Москва : Изд-во Мгу, 2022. - 540 с. : ил., табл. ; 22. - (Библиотека факультета политологии МГУ). - Библиогр.: с. 423-466 (767 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-19-011761-5.
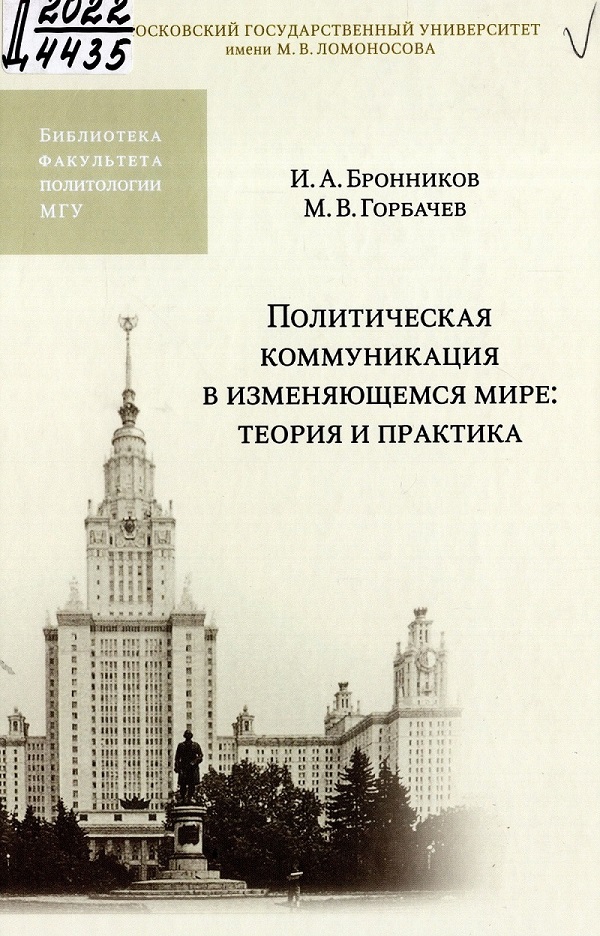
Внедрение цифровых технологий в сферу политики и государственного управления давно перестало быть новшеством. Переход на «цифру» начиная с 2012 года является главным трендом в области повышения эффективности процессов управления. Динамичное развитие цифровых технологий требует гибкого реагирования и высокой адаптивности власти к инновациям. Особое положение среди инноваций нового поколения отводится метавселен-ной (постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары, с помощью технологий виртуальной реальности), с развитием которой связывают кардинальную трансформацию всех отраслей жизнедеятельности, включая государственное управление.
Поэтапное преобразование государственных структур, работа которых все чаще основывается на инфо-технологических решениях, связанных с построением виртуальных систем и влиянием искусственного интеллекта, способствует трансформации политического процесса. Многочисленные цифровые инновации помогают в деле технологизации рутинных экономических процессов, изменения системы управления государством и обществом, совершенствования механизмов государственно-гражданского взаимодействия, а также формирования новых «правил игры» и принципов функционирования современного мира.
Цифровые технологии, становясь продолжением не только базовых социальных институтов, но и самого человека, предъявляют комплекс требований к индивидам и социальным группам современного общества. А именно от них, по мнению авторов монографии, требуется постоянное повышение уровня креативности, необходимого для успешной ориентации в социальной и цифровой реальности, критическое мышление, позволяющее осуществлять фильтрацию мощнейших информационных потоков, циркулирующих в сетевом мире, совершенствование навыков разграничения личного и социального пространств, реальных и цифровых миров и др.
В связи с этим для любой из сфер общественно-политической жизни становится крайне важно соотнести свои цели и задачи с новыми сетевыми условиями. Одним из наиболее ярких проявлений этого процесса стало создание и реализация новых цифровых проектов. Одновременно с повышением требований к человеку цифровизация открывает многочисленные социальные лифты в политической, социально-экономической и духовной сферах, способствует максимальному удовлетворению его потребностей в информационном контенте, конструирует условия для освобождения его свободного времени посредством автоматизации значительного числа процессов, повышает уровень его социально-политической активности за счет современных моделей политического участия, создает возможности для дальнейшего развития его коммуникационных навыков в сетевой реальности.
Технологии и информатизация социального пространства трансформируют структуру и содержание различных общественных сфер как в теоретическом, так и в практическом плане. В теории политической коммуникации в связи с появлением новых феноменов происходит, во-первых, значительное расширение понятийно-категориального аппарата, во-вторых, актуализация перечня компонентной структуры моделей коммуникации, в-третьих, активное заимствование механизмов коммуникации из современных технологических решений, характерных для бизнес-структур, а потом уже для социально-политических институтов.
Трансформации моделей политической коммуникации на практическом уровне происходит на технологическом и структурно-содержательном направлениях.
Первое подразумевает постоянное изменение каналов коммуникации за счет разработки и внедрения новейших средств передачи данных. В политической сфере это означает создание роботизированных порталов оказания государственных услуг населению, в экономике – конструирование производственных цепочек с минимальным участием человека. Второе направление - структурно-содержательное, куда входят коммуникационные модели новой сетевой реальности.
Глава первая, самая «философская», посвятит читателя в тайны методологии современной политической коммуникации, которые вместили в себя технологические факторы трансформации современных коммуникаций и онтологические аспекты политической коммуникации в новой информационной реальности.
То, что «посредством знаков политические тезисы государственных деятелей, партийных лидеров, общественных активистов и др. структурируются и выстраиваются в определенные цепочки и схемы», это читателю особо объяснять не нужно. И то, что человек как ключевой субъект коммуникации определяет их значения в процессе различных видов и форм информационного обмена, тоже не новость. В частности, он может воспринимать знаки буквально, понимать их на основе сложившихся традиций, сам создавать эти традиции. «Оперируя знаками, человек получает и обрабатывает информацию, поступающую извне, а результат обработки - уже новая информация – возвращается в окружающую среду… человек формирует и регулирует свою деятельность, совершая действия и производя вещи, которые отчуждаются от автора и погружаются в среду, что наполняет ее новыми смыслами».
Активно работая со знаками, человек осуществляет следующие виды социально- технологических изменений, которые являются основами его существования. Прежде всего, он трансформирует картину мира посредством изменений образов ключевых объектов, наполняющих его. Второе: создает системы новых фактов, основываясь на данных, поступающих к нему из технологической и социальной сред. Далее. Конструирует новационные виды деятельности, которые призваны расширить его творческие, научные и образовательные возможности в меняющемся мире.
Любопытную трактовку бытия человека в совместной политической коммуникации предлагают немецкие ученые. Анализируя взаимодействие таких понятий, как «информация», «сообщение», «понимание», ученые пришли к заключению, что эти компоненты производят коммуникацию вместе. Рассуждая о соотношении этих понятий, ученые исходили из того, что в основу «понимания» должно быть положено различение акта сообщения и самой информации. Именно из него и следует исходить. «Синтезы» и «разграничения» понятий «информация», «сообщение», «понимание» приводят к тому, что коммуникационная система и функционирует непрерывно как в подлинной социальной реальности, так и в виртуальном пространстве современного цифрового сообщества. Человек в данном контексте выступает субъектом, конструирующим и направляющим процессы «синтеза» и «разграничения».
Авторы убеждены, что обозначенный подход к пониманию бытия человека в структуре политической коммуникации требует более детального рассмотрения в рамках философской концепции виртуализации современных общественных отношений.
Кроме всего, читатели познакомятся с интерпретацией понятий «идеальный образ Я», «репостидентичность», «кризисная коммуникация», «net-социальность», узнают, каким образом авторы через призму технологических новаций рассматривают микро- и макроуровневые модели политкоммуникации (глава 2), что они имеют в виду под «концептуальными новеллами» микро- и макроуровневых моделей информационного обмена.
О том, что в последнее десятилетие изменения в структуре и содержании политических коммуникаций носят наиболее масштабный характер, мы уже говорили выше. Авторы отмечают, что «большинство технологических и политических вызовов сложившимся моделям коммуникации фиксируется не во всех общественно-политических сферах. Острее всего эти вызовы в таких областях, как организация и проведение онлайн-выборов, гражданская активность, протестная деятельность, государственное управление.
Выявление ключевых трендов в практиках современных политических коммуникаций в новых политико-технологических реалиях цифрового мира представляется актуальной задачей». Цифровые технологические решения в XXI веке активно проникают во все сферы общественной жизни. Политика в данном случае выступает одной из первых подсистем, где интернет и электронные технологии осуществляют настоящие революции в уже сложившихся практиках социально-политических взаимодействий. Наибольшее влияние испытывают на себе институты выборов, политические партии, системы государственного и муниципального управления, и если цифровизация последних идет постепенно, то «электронные выборы» и «цифровые партии» буквально ворвались в общественно-политическую жизнь различных стран.
Об этом процессе подробно рассказывается в главе «Онлайн-ресурсы в избирательном процессе: возможности и ограничения». «Достаточно широкий спектр информационно-коммуникационных технологий электронного голосования можно свести к 3 основным направлениям. Во-первых, это системы оптического сканирования. Во-вторых, голосование посредством «прямой записи». В-третьих, голосование через Интернет. Что касается первого направления, то оно является самым популярным. Его реализация в большинстве стран осуществляется посредством применения машин с оптическим сканированием. Эти машины (КОИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней) работают с бумажными бюллетенями, которые сначала заполняются избирателями, а затем сканируются. Табулирование голосов избирателей осуществляется автоматически. В результате процесс голосования практически не отличается от обычной подачи голосов, кроме значительной экономии времени при подсчете голосов. Второе направление развитие систем электронного голосования – машины «прямой записи» результатов подачи голосов. Данные устройства (DRE) не используют бумажные носители – бюллетени, регистрируют голоса избирателей посредством дисплея, снабженного механическими или электрооптическими компонентами. Избиратели используют набор комбинаций на сенсорном экране путем нажатия определенных клавиш. Читателям, наверное, любопытно будет узнать, что одной из первых стран, которая ввела в 1996 году в избирательные практики машины для «прямой записи» голосов избирателей, является Бразилия.
И третье направление голосования – подача голосов через Интернет. Здесь авторы подробно анализируют системы интернет-голосования с помощью ID-карты (электронной идентификации личности) или технологии блокчейн (децентрализация и дублирование получаемых в процессе голосования данных за счет их рассредоточения по нескольким серверам, в результате которого сведения о поданных голосах накапливаются одновременно в нескольких точках сбора, их становится практически невозможно изменить или подделать.
Расширение возможностей систем электронной регистрации избирателей, повышение популярности цифрового голосования привели к возникновению и быстрому развитию такого феномена, как «цифровые партии». «Цифровые партии в настоящее время являются одними из крупнейших партий в своих странах, используя механизмы опроса и рейтинга, встроены в архитектуру социальных сетей и онлайн-платформа, он не только набирают новых членов и пользователей, но и вовлекают их во все виды массовых консультаций». О том, какие именно партии вошли в авторский перечень, мы узнаем, открыв соответствующую главу книги (оговоримся, что речь идет исключительно о странах Запада).
Таким образом, современные онлайн-ресурсы и цифровые технологии значительно трансформировали структуру и содержание избирательного процесcа. Субъекты избирательного процесса получили новые технологические возможности: во-первых, ускорился процесс создания баз данных, во-вторых, появились инcтрументы контроля над дублированием списков граждан-участников выборов, в четвертых, создаются новые инструменты интернет-голосования, которые значительно повышают прозрачность выборов и ускоряют подведение их итогов.
Очень интересны главы, рассказывающие о механизмах коммуникации протеста, об основных трендах кризисной коммуникации в условиях цифровизации общества. Говоря о последнем, интересен тот факт, что до изобретения телефона, радио или переносной печатной машинки кризисная коммуникация уже существовала в форме сарафанного радио… сведения об извержениях вулкана Везувия, об афинской чуме и других бедствиях были получены благодаря информации от соседа к соседу. В Древней Греции Аристотель, изучая политическое общение в нормальных и кризисных социально-политических и природных условиях, разработал целый ряд способов борьбы с уловками и манипуляциями в процессе информационного обмена. Труды Сократа и Платона тоже содержали упоминания об информационном взаимодействии в конфликтной социально-политической среде (военные конфликты, гражданские протесты). С ключевыми направлениями развития данного вида коммуникации в эпохи Средневековья и Нового и Новейшего времени (бихевиоризм, символический интеракционализм, этнометодология) более подробно читатель познакомится, открыв соответствующую главу.
В завершении своего труда авторы предупреждают, что, безусловно, исследование не может претендовать на полный охват всех проблемных вопросов современной теории и практики политических коммуникаций. Их масштаб позволяет сконцентрировать внимание только на отдельных аспектах функционирования современных моделей информационного обмена. Цифровые технологии, утверждают исследователи, не только трансформируют место человека и социальных групп в них на основе нового типа коммуникационной культуры, но и изменяют структуру самого политического пространства, создают эффективные модели социальных и политических систем, в которых доступ граждан к решению широкого спектра политических вопросов значительно расширяется.
Каждый человек рано или поздно задает себе один и тот же вопрос: кто он? Собственно говоря, ответ на этот вопрос в значительной степени определяет его судьбу. Ибо сам вопрос больше, чем вопрос. Он существует с тех пор, как существует человек и общество. И он возникает из ощущения, что есть нечто более важное, чем отдельное человеческое существо, взятое само по себе безотносительно к чему-то общему. Что человек есть лишь часть чего-то. Отождествление же самого себя с некоторой общностью можно назвать самоидентификацией, а «отождествленность» – идентичностью. Идентичность означает тождественность, совпадение, когда человек не только ощущает, но и сознает себя как часть целого. В этой связи актуальна тема исследования Андрея Иохима «Российская идентичность и гуманитарные ценности : дискурс-анализ», вышедшего в 2020 году.
Иохим, А. Н. Российская идентичность и гуманитарные ценности : дискурс-анализ : монография / Андрей Николаевич Иохим ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет политологии. - Москва : Изд-во МГУ, 2020. - 268, [3] с. ; 23. - (Библиотека факультета политологии МГУ). - Библиогр.: с. 242-269 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-19-011507-9.
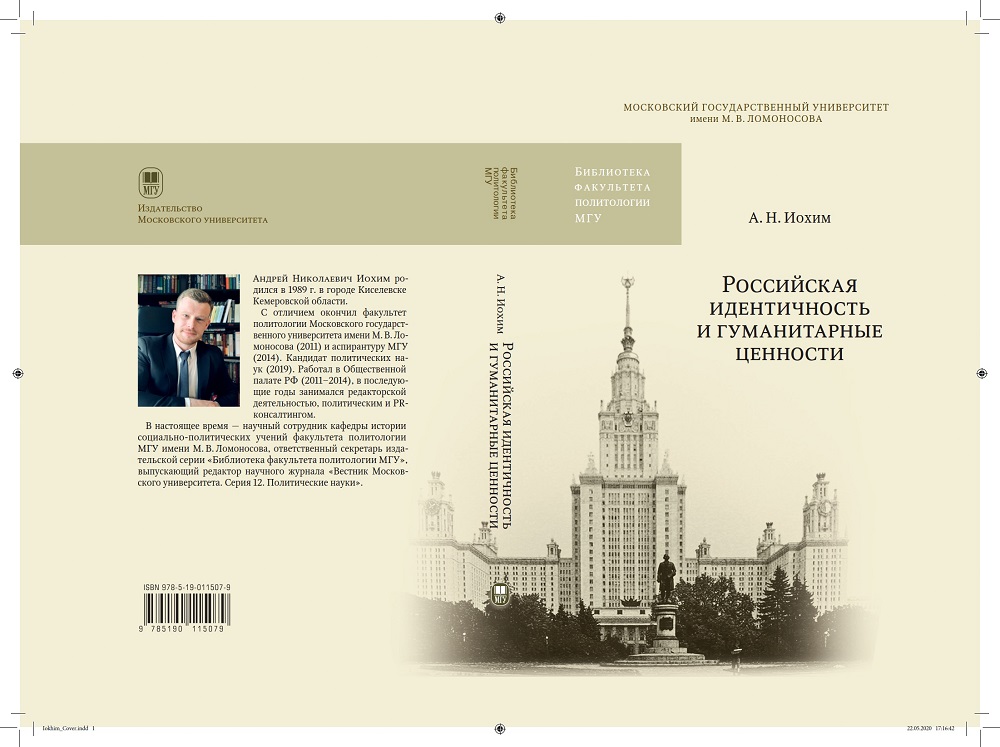
Кардинальные политические и экономические изменения, происходящие в мире в последние десятилетия, привели к расширению взаимосвязей и взаимозависимостей различных стран, народов, культур. Перемены охватывают практически все формы общественной жизни и получают в философском и общественно-научном знании неоднозначные, порой противоречивые оценки. Это связано с тем, что процессы глобализации предполагают формирование новых форм и институтов, предназначенных стать регуляторами социальных процессов в ХХI в. Многие теоретические и методологические проблемы, возникающие в этом контексте, требуют нового переосмысления. Глобализация, приводя в движение системообразующие принципы общества и личности, превращает в проблему многие устоявшиеся представления. Одной из главных выступает проблема идентичности личности, на что обращает внимание С. Хантинrтон: «Люди и нации пытаются ответить на самый главный вопрос из всех, что могут стоять перед человеком: кто мы такие?».
Главы книги «Гуманитарный дискурс и политическая практика» и «Гуманитарный дискурс и конструирование российской идентичности» рассматривают особенности формирования международной идентичности России по отношению к широкому контексту современного гуманитарного дискурса. Так называемая «гуманизация» научно-теоретического и эмпирико-политического поля международных отношений является одним из ведущих аспектов глобализационных процессов последних десятилетий. Начиная с 1990-х гг., универсальная модель человека как носителя всеобщих прав и свобод, составляющая концептуальное ядро либерально-демократического мировоззрения, выступает определяющим и легитимирующим фактором политики большинства западных государств. Следствием этого становится политизация и универсализация самой человеческой идентичности, фиксация человеческой жизни в качестве референтного (соотносимого) объекта практик международной безопасности.
В последние годы Россия стремится противопоставить универсализму и глобализму «коллективного Запада» модель независимого суверенного государства, а «сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Российской Федерации» является одной из стратегических целей, обозначенных в Стратегии национальной безопасности нашей страны. Сегодня, когда отношения с западными государствами находятся в ситуации глубокого кризиса, фактически реанимирована риторика холодной войны, понимание того, каким образом учреждаются границы политического сообщества под названием «Россия» и конструируется российская коллективная идентичность, имеет принципиальное значение.
Андрей Иохим считает, что «окончание Холодной войны и крах советского проекта в результате революционных преобразований конца 1980-х - начала 1990-х гг. привели к ситуации, характеризующейся, как пишет философ Ю. Хабермас, «отсутствием новых идей. В условиях такого рода идеологического «вакуума» либеральный универсализм смог закрепиться в качестве гегемонистской идеи, что было интерпретировано отдельными исследователями как триумф безальтернативного западного проекта модернизации». Противоречивость подобных оценок, обнаруживаемых, например, в концепции «конца истории» Ф. Фукуямы, заключалась даже не столько в том, что сложная политическая картина мира диктовала иную, гораздо менее однозначную, реальность, сколько в желании представить отсутствие альтернатив и свободы выбора как норму современной либерально-демократической идеологии». Однако, сам факт появления дискуссий о линейности общественно-политического развития человеческой цивилизации являлся весьма симптоматичным. Стремление коллективного Запада сегодня выступать исторически привилегированным субъектом, воплощающим измерение идентичности человека, на деле нередко оборачивается дискриминационной практикой конструирования сообществ «своих» и «чужих», «угнетаемых» и «угнетателей». Гуманитарные интервенции, легитимация насилия во имя защиты прав человека и демократии, применение «двойных стандартов» в области правозащиты, возникновение «осей зла» и «государств-изгоев» - всё это во многом следствия антагонистической логики, которая воспроизводится политической гегемонией современности.
В свою очередь постсоветское становление российской идентичности происходит в непрерывной диалектике идентификации с западным универсализмом и попыток его оспорить. Пройдя путь от отрицания советской идентичности и стратегии на сближение с западными демократиями до конструирования великодержавной идентичности «государства - продолжателя», Россия стремится противопоставить универсализму и глобализму модель независимого суверенного государства.
Данное исследование представляет собой попытку разностороннего осмысления взаимосвязи социокультурных трансформаций и внешнеполитической практики. В этой связи автор находит целесообразным обратиться к успевшей зарекомендовать себя в зарубежных исследованиях политических процессов и представляющей перспективное направление для отечественной политологической школы методологии дискурс-анализа, представляющего собой одно из наиболее популярных направлений исследования политического дискурса. Ключевой задачей своих научных изысканий политологи считают выявление механизмов осуществления и закрепления политической власти в процессе речевой артикуляции. Инструментарий, предлагаемый в главе «Язык и власть: понятие политического дискурса и развитие дискурс-анализа», может быть успешно применен на уровне исследования отдельных текстов, тогда как для изучения взаимодействия языковых практик и широкого социально-исторического контекста наиболее продуктивным подходом выступает постструктуралистская теория.
Проведенное исследование позволило изучить стратегии и механизмы формирования коллективной идентичности в публичном политическом дискурсе России. Историко-политологический анализ, осуществленный в рамках данной работы, позволил выявить ряд специфических особенностей формирования российской идентичности в постсоветский период. В то время, как большинство государств бывшего Советского Союза не только отказались от преемственности советской идентичности, но и пошли по пути восстановления своей докоммунистической темпоральности (специфическая взаимосвязь моментов времени и временных характеристик), Россия оказалась в более сложной с точки зрения самоопределения ситуации: с одной стороны, в начале 1990-х гг. была преодолена та точка невозврата, после которой реставрация советской идентичности стала бы нелегитимным предприятием, но, с другой – генетическая связь с Союзом не только не была окончательно отчуждена, но и нашла свое воплощение в правовой преемственности, а впоследствии и в определении российской идентичности как государства-«продолжателя».
В критических условиях 1990-х гг., когда, по сути, приходилось изобретать новый «язык» коммуникации власти и общества, так и не были сформулировано понимание природы «молодого» государства, путей его развития и отношение к внешнему миру. В результате вольное обращение с историческим материалом до сих пор продолжает доминировать в дискурсе внутренней и международной идентичности по принципу тактической целесообразности: значения коллективного «мы» определяются и переопределяются в политическом (а зачастую и в научном) дискурсе, исходя из понимания того, что «мы» хотим (а точнее – должны хотеть) сейчас. Вследствие такой практики современная российская идентичность представляет собой сложное символическое поле, где понятия либерально-демократического словаря сосуществуют с дискурсом советской преемственности, артикуляциями идеологемы «русского мира» и традиционалистских идей об уникальности российской цивилизации.
Начиная со второй половины 1990-х гг. и обретая дискурсивную завершенность в 2010-е гг., концепция российской идентичности, доминирующая в официальном политическом словаре, исходит из утверждения уникальности исторического развития России как цивилизационного образования.
В этот период российская идентичность конструируется посредством репрезентации идеологемы «государства-продолжателя», в основе которой лежит великодержавный нарратив исторической преемственности и особого цивилизационного пути российского государства. Ключевыми аспектами воспроизводства этого типа идентичности становится вытеснение за пределы конструируемого политического сообщества либеральных альтернатив и стремление определить центральные политические ценности через концепты российской суверенности.
Использование автором дискурс-анализа в рамках реализации исследовательского проекта позволило конкретные стратегии и механизмы конструирования коллективной идентичности в политическом дискурсе современной России. В основе формирования коллективной политической идентичности России в постсоветский период лежат два ключевых вектора взаимодействий: отношения с советской идентичностью и отношения с коллективной «западной» идентичностью, формируемой дискурсом гуманитарного универсализма. Таким образом, реконструкция дискурса международной идентичности России воспроизводится не просто с «оглядкой на Запад», но путем его непосредственного сопоставления с дискурсом гуманитарного универсализма.
Все книги адресованы специалистам в сфере политологии, студентам политологических факультетов вузов, всем, кто интересуется этой областью знаний.
Предлагаем вашему вниманию
Дополнительный список книг из серии «Библиотека факультета политологии МГУ»
- Горохов, А. А. Консервативные ценности в политике и общественной мысли России первой половины XIX века / Андрей Анатольевич Горохов ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. - Москва : Изд-во МГУ, 2017. - 167 с. ; 21. - (Библиотека факультета политологии МГУ). – Библиогр.: с. 145-167 (300 назв.). - ISBN 978-5-19-011172-9.
- Митяева, Ольга Ивановна. Павел Николаевич Милюков - российский историк и политик : [монография] / Ольга Ивановна Митяева, Павел Николаевич Милюков ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Факультет политологии. - Москва : Изд-во МГУ, 2019. - 158, [1] с. ; 22. - (Библиотека факультета политологии МГУ). - Библиогр.: с. 155-158 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-19-011429-4.
- Перспективы развития политической психологии : новые направления : материалы Международной научной конференции, [22-23 октября 2010 г.] / под редакцией Е. Б. Шестопал. - Москва : Изд-во МГУ, 2012. - 492, [1] с. : ил. ; 22. - (Библиотека факультета политологии МГУ). - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-211-06295-5.
- Полосин, А. В. Государственная политика в атомной отрасли : советский опыт : монография / Андрей Владимирович Полосин ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет политологии. - Москва : Изд-во МГУ, 2019. - 82, [1] с. : табл. ; 22. - (Библиотека факультета политологии МГУ). - Библиогр.: с. 81-83 (52 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-19-011458-4.
- Русская социально-политическая мысль, XI-XVII вв. : хрестоматия : учебное пособие для студентов Московского государственного университета / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Факультет политологии ; составитель С. В. Переверзенцев ; под редакцией А. А. Ширинянца, С. В. Переверзенцева. - Москва : Изд-во МГУ, 2011. - 727 с. ; 22. - (Библиотека факультета политологии МГУ). - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-211-06259-7.
- Русская социально-политическая мысль, 1850-1860-е годы : хрестоматия : учебное пособие для студентов Московского государственного университета / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Факультет политологии ; составители: И. Ю. Демин, А. А. Ширинянц ; под редакцией А. А. Ширинянца. - Москва : Изд-во МГУ, 2012. - 895 с. : портр. ; 22. - (Библиотека факультета политологии МГУ). – Библиогр. в тексте коммент. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-211-06410-2.
Ирина Борисовна Бомейко, главный библиограф справочно-библиографического отдела
(тел. 72-74-69, каб. 206)

